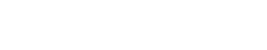- ВЯК › Приложение 2: Перцептивная перспектива
п.2:
Перцептивная перспектива, или новый реализм в динамическом мультиформате
ОПРЕДЕЛЕНИЕ:
реалистичная визуализация геометрии объектов в пространстве и времени их наблюдения.
ОПИСАНИЕ:
Размышление о природе вещей рано или поздно приводит к осознанию бесполезности и несущественности понятия «перспектива» при создании объема в иллюзорных пространствах. А если серьезно, перед дальнейшим чтением или уже после настоятельно рекомендуется ознакомиться с книгой Б. В. Раушенбаха «Пространственные построения в живописи». Далее будет приведено резюме к этой уникальной работе, в котором из разумных ограничений обязательно будут допущены местами резкие суждения, выступающие в роли проведения к сути данного приложения.
Завязка к острому вопросу о связи проекций и восприятия находит свое начало в относительно недавней истории Запада. Где в средние века произведения искусства запечатлевали результат человеческого взаимодействия с действительностью, как на Востоке и Юге. При таком подходе культуре не требовались виртуальные реальности, все необходимые к передаче другим людям мысли и чувства буквально выносились, материализовывались из зоны восприятия вовне — сами предметы, формирующие одно единственное общее и доступное для всех окружение. Проще говоря, барабайки были реальны и этим страшны, но оставались подвластным человеку измышлением и ходили под небом вместе с людьми. Что ощущается как деяния общества довольно богобоязненного склада ума: мы не посягаем на мир, мы привносим в него наше видение божественных творений. Что, с одной стороны, позволяет наслаждаться человечностью вне человека, а с другой, сильно ограничивает познание бесчеловечного, недоступного естественным путем — звезд, к примеру.
В следующую эпоху произведения искусства начали пытаться запечатлевать саму действительность, ведь если она божественна, а мы ее повторим, то мы — почти боги. В общем это привело лишь к упрощениям и нагромождениям. Без сознания с материей в последней не обнаруживается ни смыслов, ни чувств. Что в некоторых случаях оказывается полезным. А в частности сама идея копировать реальность оказалась пошатана, ведь обнаружилось, что наблюдатель всегда искажает суть наблюдаемого: вроде бы создаем частицу, а она все равно волнуется. Что обернулось преимуществом идеи произвольного, а не случайного изменения окружения с целью запутать осмысляющего и пустить по нужной дороге размышлений. А также бесконечному генерированию новых и новых виртуальных реальностей, по одной на каждую текущую задачу. То есть в этом построении барабайки стали нереальны, но от них теперь можно лишь сбежать в иную неподвластную никому нереальность, что страшно.
Вспомните католический образ абсолютного зла, модернизированный церковью в подобие человеку возрождения, который мы наблюдаем и в современной культуре несмотря на все каршеринги. Ведь оно также создает бесконечные иллюзии путем искажений истины. А это значит, что Европа своей историей явила ярко выраженную дихотомию из противоборствующих подходов к осознанию сущего и формированию его реалистичной репрезентации, конфликт которых не ощущается разрешенным. Что, разумеется, отражается в искусстве в виде двух диаметральных типах реализма. Каждый из которых имеет свои ограничения и, как водится, сменяет единственного соседа из века в век. Люди устают от текущего способа конструирования своих снов и за неимением лучшего аналога кидаются в противоположную крайность. Но если тысячу лет назад на ход маятника приходилась сотня, и это могло оставаться незамеченным. То сегодня мы можем качаться на этих качелях хоть каждый день. Что не очень эффективно выглядит, приводит к хаосу и дезориентации, в финале же губительно сказывается на культуре.
Для создателей, а не потребителей современных великих творений возможности менять свое предпочтение вовсе не обнаруживается, что усугубляет противоречия. Обе эти маленькие в своем ядре идеи обросли таким числом технологий воплощения, что для того, чтобы научиться ими просто пользоваться, набираться опыта приходится уже десятилетиями. А ведь затем еще заставят искать свой стиль… Все это автоматически делит искусство в любом его виде на два полностью автономных, не соприкасающихся лагеря. Одни бесконечно варятся в оптикоцентризме, ищут и подбирают подходящие линзы, желая еще точнее исказить реальность с нужной целью. Другие собирают повсюду способы выражения себя вовне так, чтобы оно стало частью мира, доступного всем. В быту же мы видим громкие заявления об объективности или субъективности, которые в своих фанатичных проявлениях приводят нас к симулякрам или вещам в себе, не находя точек соприкосновения.
Но мы попробуем связать эти идеи и даже добьемся некоторого успеха хотя бы в части видимого на экране, что уже немало. Ведь возможность синтезировать объект и субъект в один предмет довольно полезна. Можно достичь нового, срединного типа реализма, да и миропонимания, если захотеть. А также решить главную проблему кинематографии — отсутствие собственного двигателя композиции.
реалистичная визуализация геометрии объектов в пространстве и времени их наблюдения.
ОПИСАНИЕ:
Размышление о природе вещей рано или поздно приводит к осознанию бесполезности и несущественности понятия «перспектива» при создании объема в иллюзорных пространствах. А если серьезно, перед дальнейшим чтением или уже после настоятельно рекомендуется ознакомиться с книгой Б. В. Раушенбаха «Пространственные построения в живописи». Далее будет приведено резюме к этой уникальной работе, в котором из разумных ограничений обязательно будут допущены местами резкие суждения, выступающие в роли проведения к сути данного приложения.
Завязка к острому вопросу о связи проекций и восприятия находит свое начало в относительно недавней истории Запада. Где в средние века произведения искусства запечатлевали результат человеческого взаимодействия с действительностью, как на Востоке и Юге. При таком подходе культуре не требовались виртуальные реальности, все необходимые к передаче другим людям мысли и чувства буквально выносились, материализовывались из зоны восприятия вовне — сами предметы, формирующие одно единственное общее и доступное для всех окружение. Проще говоря, барабайки были реальны и этим страшны, но оставались подвластным человеку измышлением и ходили под небом вместе с людьми. Что ощущается как деяния общества довольно богобоязненного склада ума: мы не посягаем на мир, мы привносим в него наше видение божественных творений. Что, с одной стороны, позволяет наслаждаться человечностью вне человека, а с другой, сильно ограничивает познание бесчеловечного, недоступного естественным путем — звезд, к примеру.
В следующую эпоху произведения искусства начали пытаться запечатлевать саму действительность, ведь если она божественна, а мы ее повторим, то мы — почти боги. В общем это привело лишь к упрощениям и нагромождениям. Без сознания с материей в последней не обнаруживается ни смыслов, ни чувств. Что в некоторых случаях оказывается полезным. А в частности сама идея копировать реальность оказалась пошатана, ведь обнаружилось, что наблюдатель всегда искажает суть наблюдаемого: вроде бы создаем частицу, а она все равно волнуется. Что обернулось преимуществом идеи произвольного, а не случайного изменения окружения с целью запутать осмысляющего и пустить по нужной дороге размышлений. А также бесконечному генерированию новых и новых виртуальных реальностей, по одной на каждую текущую задачу. То есть в этом построении барабайки стали нереальны, но от них теперь можно лишь сбежать в иную неподвластную никому нереальность, что страшно.
Вспомните католический образ абсолютного зла, модернизированный церковью в подобие человеку возрождения, который мы наблюдаем и в современной культуре несмотря на все каршеринги. Ведь оно также создает бесконечные иллюзии путем искажений истины. А это значит, что Европа своей историей явила ярко выраженную дихотомию из противоборствующих подходов к осознанию сущего и формированию его реалистичной репрезентации, конфликт которых не ощущается разрешенным. Что, разумеется, отражается в искусстве в виде двух диаметральных типах реализма. Каждый из которых имеет свои ограничения и, как водится, сменяет единственного соседа из века в век. Люди устают от текущего способа конструирования своих снов и за неимением лучшего аналога кидаются в противоположную крайность. Но если тысячу лет назад на ход маятника приходилась сотня, и это могло оставаться незамеченным. То сегодня мы можем качаться на этих качелях хоть каждый день. Что не очень эффективно выглядит, приводит к хаосу и дезориентации, в финале же губительно сказывается на культуре.
Для создателей, а не потребителей современных великих творений возможности менять свое предпочтение вовсе не обнаруживается, что усугубляет противоречия. Обе эти маленькие в своем ядре идеи обросли таким числом технологий воплощения, что для того, чтобы научиться ими просто пользоваться, набираться опыта приходится уже десятилетиями. А ведь затем еще заставят искать свой стиль… Все это автоматически делит искусство в любом его виде на два полностью автономных, не соприкасающихся лагеря. Одни бесконечно варятся в оптикоцентризме, ищут и подбирают подходящие линзы, желая еще точнее исказить реальность с нужной целью. Другие собирают повсюду способы выражения себя вовне так, чтобы оно стало частью мира, доступного всем. В быту же мы видим громкие заявления об объективности или субъективности, которые в своих фанатичных проявлениях приводят нас к симулякрам или вещам в себе, не находя точек соприкосновения.
Но мы попробуем связать эти идеи и даже добьемся некоторого успеха хотя бы в части видимого на экране, что уже немало. Ведь возможность синтезировать объект и субъект в один предмет довольно полезна. Можно достичь нового, срединного типа реализма, да и миропонимания, если захотеть. А также решить главную проблему кинематографии — отсутствие собственного двигателя композиции.
1
ГОТИКА-ФУТУР
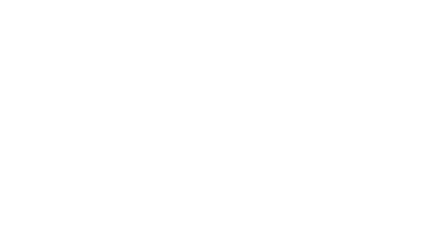
Road Rash (1991)
Реализм, который можно назвать типом Готика, мы скоро будем все чаще наблюдать по разным причинам. В нем акцент при построении видимого смещен в сторону имитации уже обработанного мозгом сигнала с глазных рецепторов в купе со стремлением оставить этот результат максимально обобщенным, лишенным недостатка чрезмерного влияния личного опыта. Досконально описывать методологию здесь смысла не имеет, ведь это уже сделано Раушенбахом. Им же утверждается, что если человек задастся целью повторить свой взгляд на вещи, а не свое понимание взгляда на таковые, он с тем или иным приближением получит перцептивное построение даже без специального знания его устройства. Общий смысл которого в том, что для создания наиболее близкого к физически правдоподобной, той, что можно потрогать и не ощутить диссонанса с видимым, геометрии наблюдаемого объекта, мы трансформируем его окружение с целью наиболее полно ощутить предмет интереса. Это похоже на гравитационные искажения пространства и времени возле массивных Эйнштейновских тел.
Обозначить это построение можно так: ](о› н, где о — объект, н — наблюдатель, › - направление схождения перспективы перед объектом, (- за объектом, а знак скобки — ] - увеличенный в сторону наблюдателя фон или приближенный к нему горизонт. Упрощенно все это можно охарактеризовать как искажение прямой линейной перспективы обратной с целью создания на их стыке почти аксонометрического вида интересующего объекта, который точнее любого иного выражает реальность, или скорее является наиболее информативным для нас. Та же операция происходит и с дальним планом, который необходимо приблизить к точке внимания, чтобы лучше понять значение, назначение той формы, на которую упал наш взгляд, относительно ее окружения.
Примеров таких сложных конструкций мало, но мы можем видеть косвенное стремление к этому построению, обусловленное популярностью аксонометрических и просто двухмерных видеоигр, мультфильмов, картин и проч. с видом сверху или сбоку, не претендующих на эффект объема или смену точки зрения. Ведь и в этих случаях при создании видимого не используется принцип линзы. Что логично, ведь если мы хотим максимально полно погрузиться в то, что находится перед нашим взором, то ее не обнаруживаем.
Тем не менее существуют удачные эксперименты с полноценной реализацией механики запечатления глубокого видения, которое по логике вещей находится не просто до наших глаз, но уже в самом сознании. Игра Road Rash от Electronic Arts является настоящим искусством и оправдывает название компании-производителя. В ней мы наблюдаем динамическую перцептивную перспективу, нарисованную вручную вокруг участка дороги перед мотогонщиком с учетом всех ограничений экрана. Что и в 1991 году, и сейчас вызывает восторг при управлении этой иллюзией, в полной мере выражает ощущение быстрой езды по трассе.
Но если мы пробуем развивать эту идею, то обнаруживаем трудности при попытке создать динамическое или хотя бы статическое перцептивное построение, которое не привязывалось бы к тем или иным условностям, как в нашем наглядном примере. Все из-за того, что искажения вокруг объекта видения, в угоду его информативности или близости к действительности, как угодно, очень велики и становятся заметны, если мы начинаем смотреть не туда. Что невозможно в жизни, где мы всегда смотрим только туда, куда нужно. Покуда же наше внимание приковано к центру такой композиции — все хорошо — ведь в гоночной игре мы глядим на дорогу, а не иначе.
То есть если мы хотим использовать технологию или хотя бы идею такого отображения, нам нужно сначала предоставить способ выбора и фиксации объекта внимания, уже от которого будет незаметно строиться окружение. И представляется, что в случае именно видеоигр мы через какое-то время придем к управляемой перцептивной геометрии, а не просто камере. Для этого на самом деле все есть, надо лишь заместить одни расчеты проекции известными другими.
Что же до кино, то пока мы пользуемся камерами, а не лидарами, хотя наше восприятие ближе ко второму, и на это есть свои причины. Мозг успевает практически без задержки создать карту геометрии пространства, прыгая взглядом от объекта к объекту, тогда как вычислять это с тем же качеством без суперкомпьютера сложно. Пытаться же из проекции объектива сделать описанное — повторить работу головы — еще сложнее, ведь сетчатка мало того, что неравномерна по плотности, так еще и не плоская и обрабатывается не понятно какими именно процессами, честно говоря. От этого приходится отталкиваться.
Но даже зная все сложности, частично мы можем выбрать из этой концепции кое-что реализуемое, полезное. Из нее становится очевидным, что критерий выделения объекта на собственном фоне — его приближенная к истине геометрия. Которая специально формируется наблюдателем путем некоторых преобразований сигнала с глаз, но происходит это до сознательных процессов. То есть к чему бы не прилипло наше видение, случайно или не случайно, на входе в мысль мы всегда получаем удобоваримое представление о предмете, близкое по сути к нему самому. Что и заставляет его стать объектом внимания.
Обозначить это построение можно так: ](о› н, где о — объект, н — наблюдатель, › - направление схождения перспективы перед объектом, (- за объектом, а знак скобки — ] - увеличенный в сторону наблюдателя фон или приближенный к нему горизонт. Упрощенно все это можно охарактеризовать как искажение прямой линейной перспективы обратной с целью создания на их стыке почти аксонометрического вида интересующего объекта, который точнее любого иного выражает реальность, или скорее является наиболее информативным для нас. Та же операция происходит и с дальним планом, который необходимо приблизить к точке внимания, чтобы лучше понять значение, назначение той формы, на которую упал наш взгляд, относительно ее окружения.
Примеров таких сложных конструкций мало, но мы можем видеть косвенное стремление к этому построению, обусловленное популярностью аксонометрических и просто двухмерных видеоигр, мультфильмов, картин и проч. с видом сверху или сбоку, не претендующих на эффект объема или смену точки зрения. Ведь и в этих случаях при создании видимого не используется принцип линзы. Что логично, ведь если мы хотим максимально полно погрузиться в то, что находится перед нашим взором, то ее не обнаруживаем.
Тем не менее существуют удачные эксперименты с полноценной реализацией механики запечатления глубокого видения, которое по логике вещей находится не просто до наших глаз, но уже в самом сознании. Игра Road Rash от Electronic Arts является настоящим искусством и оправдывает название компании-производителя. В ней мы наблюдаем динамическую перцептивную перспективу, нарисованную вручную вокруг участка дороги перед мотогонщиком с учетом всех ограничений экрана. Что и в 1991 году, и сейчас вызывает восторг при управлении этой иллюзией, в полной мере выражает ощущение быстрой езды по трассе.
Но если мы пробуем развивать эту идею, то обнаруживаем трудности при попытке создать динамическое или хотя бы статическое перцептивное построение, которое не привязывалось бы к тем или иным условностям, как в нашем наглядном примере. Все из-за того, что искажения вокруг объекта видения, в угоду его информативности или близости к действительности, как угодно, очень велики и становятся заметны, если мы начинаем смотреть не туда. Что невозможно в жизни, где мы всегда смотрим только туда, куда нужно. Покуда же наше внимание приковано к центру такой композиции — все хорошо — ведь в гоночной игре мы глядим на дорогу, а не иначе.
То есть если мы хотим использовать технологию или хотя бы идею такого отображения, нам нужно сначала предоставить способ выбора и фиксации объекта внимания, уже от которого будет незаметно строиться окружение. И представляется, что в случае именно видеоигр мы через какое-то время придем к управляемой перцептивной геометрии, а не просто камере. Для этого на самом деле все есть, надо лишь заместить одни расчеты проекции известными другими.
Что же до кино, то пока мы пользуемся камерами, а не лидарами, хотя наше восприятие ближе ко второму, и на это есть свои причины. Мозг успевает практически без задержки создать карту геометрии пространства, прыгая взглядом от объекта к объекту, тогда как вычислять это с тем же качеством без суперкомпьютера сложно. Пытаться же из проекции объектива сделать описанное — повторить работу головы — еще сложнее, ведь сетчатка мало того, что неравномерна по плотности, так еще и не плоская и обрабатывается не понятно какими именно процессами, честно говоря. От этого приходится отталкиваться.
Но даже зная все сложности, частично мы можем выбрать из этой концепции кое-что реализуемое, полезное. Из нее становится очевидным, что критерий выделения объекта на собственном фоне — его приближенная к истине геометрия. Которая специально формируется наблюдателем путем некоторых преобразований сигнала с глаз, но происходит это до сознательных процессов. То есть к чему бы не прилипло наше видение, случайно или не случайно, на входе в мысль мы всегда получаем удобоваримое представление о предмете, близкое по сути к нему самому. Что и заставляет его стать объектом внимания.
2
РЕТРО-РЕНЕССАНС
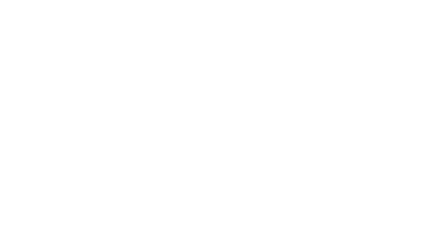
TT Isle of Man Ride on the Edge 2 (2020)
В реализме типа Ренессанс, который сегодня переживает спад востребованности у публики, геометрия проекции строится по подобию самого глаза. Мы видим просвет реального пространства через линзу на плоскость смотра, повтор хрусталика и сетчатки, которые порождают прямую линейную перспективу, в идеальном случае сходящуюся за объектом интереса. Схематично это выглядит так: [(о‹ н.
Эффект объема, рождаемый таким построением обусловлен не схожестью видимого с действительностью, как заблуждаются многие, а сложностью обработки такого сигнала, эффектом. Вместо реальности нам приходится видеть дубль собственной оптики, где-то бесконечно за которой, как в переотраженном зеркале, предполагается искомое. И на восстановление понимания, представления тратится столько нейронных ресурсов, что наблюдатель начинает считать видимое за реальное, а значит — объемное.
Кстати говоря отчасти поэтому, а не только из-за яркости мониторов, наше зрение сегодня так быстро деградирует. Ведь мозгам проще избавиться от одного лишнего глаза на пути к информации, чем так перетруждаться в попытках ее получить. Но испорченный орган можно починить или даже заменить, а вот регресс нейронных связей в затылочной области так быстро уже не исправить. Механизм естественного видения постепенно становится рудиментом и превращается в привычку к обработке линейной перспективы. Что в какой-то степени объясняет частоту расстройств внимания, ощущение дереализации окружающей действительности у людей, злоупотребляющих подобными иллюзиями. Они попросту теряют способность выделять объекты вокруг.
Еще совсем недавно разница между проекцией через линзу и тем, что мы видим самостоятельно, казалась нам вполне очевидной. Мы боялись своих фотографий, ведь обнаруживали на них не себя, а кого-то другого. И предпочитали живописные портреты, запечатлевающие взгляд художника, конечно, но все же взгляд человеческий, а не механический, упрощенный. Да и сейчас мало кому нравится свое собственное фото на паспорт. Понимание это не эксклюзивно. Стремление художников к правдоподобию в живописи, помимо искажений линейной перспективы, породило ее модернизацию в панораму. Которая объединяет несколько точек схождения параллельных в реальности линий на горизонте. Что в случае с камерой выражается в использовании анаморфотных объективов. И они то как раз идеально передают геометрию театральной сцены, взгляд зрителя на которую свободен по-горизонтали, покуда сама сцена никуда особенно не смещается. Но нас интересует обратное — движение, и не малое.
С ним, как можно судить на примере более современной видеоигры — TT Isle of Man Ride on the Edge 2, все не так хорошо. Во первых да, вид из-за какого-нибудь объекта остается наиболее предпочтителен, ведь нам все еще приходится скрывать горизонт. А если мы пытаемся дать наблюдателю первое лицо, то просто обязаны лепить в центр экрана прицел или что-то подобное, выполняющее ту же функцию. Также мы видим, что смысл игры, дорога, в этом построении начинает мешать смотреть. Взгляд цепляется за нее и тянется по ней вниз, в центр перспективы, который находится для нас за мотоциклом по диагонали к плоскости асфальта, под ним. Из-за этого авторам приходится использовать стрелочки, которые падают в направлении тяготения глаз и показывают, куда нам все-таки ехать. Сам же наблюдатель разобраться не может, ведь все объекты по сути своей равнозначно искажены, выделение каких-либо из них возможно только фокусом в случае реальной съемки ну или стрелочками, иными внешними знаками, как в нашем примере.
Если развивать идею дальше, то, понятное дело, мы вынуждены будем делать псевдо-трехмерную надстройку. Которая должна компенсировать равноискаженность объектов двунаправленностью взгляда на некоторые из них. Но и это не помогает, ведь в динамике используемой проекции очень трудно сфокусировать внимание на определенном предмете, он все еще искажается ровно так же, как и все остальные вокруг него. А яркость этих непрекращающихся искажений, трансформаций, резко увеличивается с обретаемой подвижностью и препятствует попыткам наблюдателя сфокусироваться. Что все же кажется вполне решаемым, если встроить экран в сетчатку, вместо того, чтобы размещать его перед глазами. А пока мы получаем лишь головокружение и головную боль от удвоенного напряжения при восприятии таких вещей через биологический орган.
Но простота в производстве этой схемы перекрывает ее неполноценность. Да и в целом идея в своем начале занятная — повтор, зеркало, взгляд на которое тащит наблюдателя в бесконечно далекий центр композиции. Или к объекту, скрывающему этот самый центр. Это можно использовать. И не придется ничего делать с устройством камеры.
Эффект объема, рождаемый таким построением обусловлен не схожестью видимого с действительностью, как заблуждаются многие, а сложностью обработки такого сигнала, эффектом. Вместо реальности нам приходится видеть дубль собственной оптики, где-то бесконечно за которой, как в переотраженном зеркале, предполагается искомое. И на восстановление понимания, представления тратится столько нейронных ресурсов, что наблюдатель начинает считать видимое за реальное, а значит — объемное.
Кстати говоря отчасти поэтому, а не только из-за яркости мониторов, наше зрение сегодня так быстро деградирует. Ведь мозгам проще избавиться от одного лишнего глаза на пути к информации, чем так перетруждаться в попытках ее получить. Но испорченный орган можно починить или даже заменить, а вот регресс нейронных связей в затылочной области так быстро уже не исправить. Механизм естественного видения постепенно становится рудиментом и превращается в привычку к обработке линейной перспективы. Что в какой-то степени объясняет частоту расстройств внимания, ощущение дереализации окружающей действительности у людей, злоупотребляющих подобными иллюзиями. Они попросту теряют способность выделять объекты вокруг.
Еще совсем недавно разница между проекцией через линзу и тем, что мы видим самостоятельно, казалась нам вполне очевидной. Мы боялись своих фотографий, ведь обнаруживали на них не себя, а кого-то другого. И предпочитали живописные портреты, запечатлевающие взгляд художника, конечно, но все же взгляд человеческий, а не механический, упрощенный. Да и сейчас мало кому нравится свое собственное фото на паспорт. Понимание это не эксклюзивно. Стремление художников к правдоподобию в живописи, помимо искажений линейной перспективы, породило ее модернизацию в панораму. Которая объединяет несколько точек схождения параллельных в реальности линий на горизонте. Что в случае с камерой выражается в использовании анаморфотных объективов. И они то как раз идеально передают геометрию театральной сцены, взгляд зрителя на которую свободен по-горизонтали, покуда сама сцена никуда особенно не смещается. Но нас интересует обратное — движение, и не малое.
С ним, как можно судить на примере более современной видеоигры — TT Isle of Man Ride on the Edge 2, все не так хорошо. Во первых да, вид из-за какого-нибудь объекта остается наиболее предпочтителен, ведь нам все еще приходится скрывать горизонт. А если мы пытаемся дать наблюдателю первое лицо, то просто обязаны лепить в центр экрана прицел или что-то подобное, выполняющее ту же функцию. Также мы видим, что смысл игры, дорога, в этом построении начинает мешать смотреть. Взгляд цепляется за нее и тянется по ней вниз, в центр перспективы, который находится для нас за мотоциклом по диагонали к плоскости асфальта, под ним. Из-за этого авторам приходится использовать стрелочки, которые падают в направлении тяготения глаз и показывают, куда нам все-таки ехать. Сам же наблюдатель разобраться не может, ведь все объекты по сути своей равнозначно искажены, выделение каких-либо из них возможно только фокусом в случае реальной съемки ну или стрелочками, иными внешними знаками, как в нашем примере.
Если развивать идею дальше, то, понятное дело, мы вынуждены будем делать псевдо-трехмерную надстройку. Которая должна компенсировать равноискаженность объектов двунаправленностью взгляда на некоторые из них. Но и это не помогает, ведь в динамике используемой проекции очень трудно сфокусировать внимание на определенном предмете, он все еще искажается ровно так же, как и все остальные вокруг него. А яркость этих непрекращающихся искажений, трансформаций, резко увеличивается с обретаемой подвижностью и препятствует попыткам наблюдателя сфокусироваться. Что все же кажется вполне решаемым, если встроить экран в сетчатку, вместо того, чтобы размещать его перед глазами. А пока мы получаем лишь головокружение и головную боль от удвоенного напряжения при восприятии таких вещей через биологический орган.
Но простота в производстве этой схемы перекрывает ее неполноценность. Да и в целом идея в своем начале занятная — повтор, зеркало, взгляд на которое тащит наблюдателя в бесконечно далекий центр композиции. Или к объекту, скрывающему этот самый центр. Это можно использовать. И не придется ничего делать с устройством камеры.
3
МЕТА-ДИАЛЕКТИКА
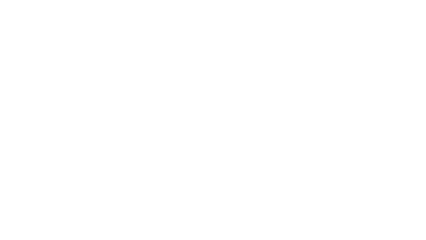
The observer's mirror (2025)
Общей проблемой как первого, так и второго способа проекции является сложность стыковки точек зрения при одновременном, или около того, их размещении перед наблюдателем. Что рождает абсолютно все художественные техники, работающие на ограничение взгляда или сокрытие от него разрывов геометрии, в изобразительном искусстве. Благо кино таковым не является, и мы можем спокойно разместить все необходимое поочередно, явив образ в чистом виде. Но при этом столкнемся с обратной проблемой — отсутствием пространства. Которое в любом случае надо эмулировать, задействуя зрителя в процесс формирования временной композиции. Что мы и видим в той же литературе. В приведенных же схемах наблюдатель остается внешним по отношению к произведению предметом, даже если мы частично воспроизводим те или иные его свойства. Что нам тоже приходится менять для кино при отказе от героев и т. п.
И когда мы что-то извлекаем из предложенных типов реалистического для решения стоящих задач, нужно понимать, какие сложности они тащат за собой. Нам приходится использовать устройство камеры, в комплекте к которой идет объектив. То есть от линейной перспективы нам никак не отделаться. А ее принципа функционирования уже достаточно, чтобы говорить о серьезном заимствовании. Остается понять, чем это хорошо, а чем плохо. С одной стороны, мы получаем идею зеркала и эффект притяжения к объекту съемки, с другой — серьезные искажения этого объекта, его окружения и сокрытие информации далеко за экраном. Следовательно, понадобится нечто, что будет уравнивать стремление всех интересующих нас предметов улетать в бесконечность, а еще компенсировать трансформации геометрии, или использовать их.
После непродолжительного поиска подходящих решений в противоположном лагере, мы обнаруживаем две подходящие мысли. А именно: сканирование вместо съемки и искажение окружения объекта с целью понять его реальную геометрию. Первое достигается сменой режима работы с камерой на более подвижный относительно предмета, а не просто всего попавшего в видоискатель. То есть объект всегда фиксируется в центре проекции, где ему самое место. Второе получается автоматически, ведь фон, если он не объект, начинает серьезно трансформироваться, позволяя зрителю понять положение, динамику и общее значение интересующей формы. Представим это в виде векторов движения камеры: о\к, о/к, о (к и о)к, где о — объект, \ / () — векторы движения, к — камера. Последний способ оказывается предпочтителен.
Но этого остается недостаточно для того, чтобы назвать новый реализм таковым. Придется привнести и нечто небывалое в текущее размышление. Для этого нужно задуматься о том, в чем реально выражена проблема границ экрана, почему он нас раздражает, почему экраны все время растут в размере. И найти ответ на это можно лишь присмотревшись к своему собственному полю зрения. Оно вдруг окажется не целым и всеохватывающим, а составным и подвижным. Наши глаза бесконечно бегают по нему, оставляя следы, которые в реальном времени дорисовывается мозгом до границ наших глазниц, те, в свою очередь, тоже перемещаются при повороте головы или движении корпуса. Конечно, нам не повторить этот процесс искусственно и сполна, ведь состыковать геометрию периферийного зрения, которое даже по цвету отличается от зоны четкого, с ним самим мы не в силах. Но вот стимулировать голову, чтобы она сделала это за нас с видимым на экране вполне можно. Проще говоря, нам надо каждой киноголове дать по киноглазу, чтобы форсировать еще две оси движения, которых так не хватает. Заставить стеклянный объектив шевелиться относительно мнимого поля зрения.
Страшно представить, что будет с человеком, который осознает, что всю жизнь смотрел на любимых героинь мертвым рыбьим глазом, но да ладно. Составим схему для искомого построения: н ›o)][(о‹ н. На ней мы отразили в прямом и переносном смысле суть работы зрачка. Для отображения которого на экране используется подвижный формат, за наводку спасибо старине Эйзенштейну, конечно. Жаль только, что он, будучи в плену логики изобразительного, не догадался поместить в свое окно камеру целиком и хотел лишь ограничивать взгляд на картину, по типу динамического кадрирования. А мы упаковали оптику в мышцу, фактически, что отвечает идее компенсации бесконечной удаленности видимого тем, что оно обратно притягивается взором, зависит от него. Экран становится похож на глаз с подвижным зрачком, но не смотрящим, как у зрителя, а являющим видимое для него. Это как смотреть в полноценное зеркало, ощущая двойное присутствие наблюдателя.
Остается решающая тонкость. При такой подаче мы получаем не проекцию, на самом деле, а презентацию. Имеется в виду, что направление взгляда не влияет на формат. Как бы не вращалась камера в натуре по всем осям, на экране результат съемки отображается и движется лишь в одной плоскости. Что разделяет движение формата и движения камеры, позволяя имитировать подвижность глаза-головы-тела при помощи асинхронной динамики. А это, стоит заметить, формирует уже не просто взгляд на экран, как в Готике, или в экран, как в Ренессансе, а нечто двоякое, среднее между тем и этим. Зритель начинает воображать, домысливать свое движение, приводящее его к перпендикулярному плоскости проекции объектива положению относительно камеры. В действительности же он все еще остается недвижим, наблюдая уже совершившую этот пограничный переход из трехмерного в двухмерное сущность — подвижный формат, пограничное состояние наблюдателя между двумя реальностями и двумя своими итерациями.
Такое незнакомое ощущение нуждается в том, чтобы ему не мешали. Для этого необходимо выбрать правильную форму границ динамического отображения. А так как глаза у нас два и зон четкого зрения тоже две, и мы знаем, что они практически совмещаются по горизонтали при взгляде на объект, любая форма оказывается чуть растянута ими за бока или иначе — сплюснута вертикально. Что мозг всегда пытается исправить. Есть и более внятное объяснение этого эффекта, его влияния на предпочтение тех или иных форм, их заметность для нашего зрения. Но общая суть в том, что квадрат — это плохо, потому что мы знаем, что это квадрат, но видим нечто иное, то же самое и с кругом. Поэтому соотношение пропорций любой математически красивой рамки стоит чуть растягивать по-горизонтали, чтобы снять это противоречие, лишив внимание ненужного раздражителя. Оптимальная деформация пропорций — 1.1:1. Она позволяет обмануть мозг, заставив его поверить, что он уже выполнил всю работу по компенсации этой особенности бинокулярного зрения или что она не нужна.
Дав возможность зрителю смотреть вна экран, прямо как вна действительность, у нас появляется место для материализации действий наблюдателя, важнейшей части кинодвигателя композиции. Ведь мы уже знаем, что как раз они формируют внешний цикл для последовательности объектов. То есть непосредственная связь видимого глазом и самого глаза становится основой для имитации осмысляющего взгляда наблюдателя, а следовательно — его самого, и отношения к видимому. Которое вполне можно циклично повторять, впервые формируя три времени в кино: объективное — движение объектов, субъективное — смена объектов, наблюдателя — относительное движение мультиформата: камеры и ее репрезентации в реальности зрителя. Чередуя значения такого взгляда, мы начинаем мыслить наблюдателя как кинообъект с соответствующим составом: метр, форма, цвет и звучание. Что легко записывается в образце в виде параллельной выражению линии.
Полноценная реализация в виде законченного полномерного произведения, из которого и приведен фрагмент для примера, будет представлена позднее. Можно будет почитать о процессе создания, технологических трудностях, может быть, подсмотреть какие-то дополнительные решения или увидеть неточности в реализации теории. Это кинопередача «Зеркало для наблюдателя».
Но помимо кино, реалистичное отображение типа Мета будет использовано в благих целях. Оно работает на развитие образного мышления, исправляет последствия чрезмерного увлечения экранными развлечениями, разъясняет деятелям визуальных искусств, что такое их творческое видение, показывает, как адекватно реагировать на те или иные вещи и многое-многое другое. Ведь, к сожалению, нельзя научиться видеть, смотря на все снежинки сразу. И понимать, зная бессвязное. Как и наоборот, пустой взгляд остается таковым, где бы он не искал себе подобия.
И когда мы что-то извлекаем из предложенных типов реалистического для решения стоящих задач, нужно понимать, какие сложности они тащат за собой. Нам приходится использовать устройство камеры, в комплекте к которой идет объектив. То есть от линейной перспективы нам никак не отделаться. А ее принципа функционирования уже достаточно, чтобы говорить о серьезном заимствовании. Остается понять, чем это хорошо, а чем плохо. С одной стороны, мы получаем идею зеркала и эффект притяжения к объекту съемки, с другой — серьезные искажения этого объекта, его окружения и сокрытие информации далеко за экраном. Следовательно, понадобится нечто, что будет уравнивать стремление всех интересующих нас предметов улетать в бесконечность, а еще компенсировать трансформации геометрии, или использовать их.
После непродолжительного поиска подходящих решений в противоположном лагере, мы обнаруживаем две подходящие мысли. А именно: сканирование вместо съемки и искажение окружения объекта с целью понять его реальную геометрию. Первое достигается сменой режима работы с камерой на более подвижный относительно предмета, а не просто всего попавшего в видоискатель. То есть объект всегда фиксируется в центре проекции, где ему самое место. Второе получается автоматически, ведь фон, если он не объект, начинает серьезно трансформироваться, позволяя зрителю понять положение, динамику и общее значение интересующей формы. Представим это в виде векторов движения камеры: о\к, о/к, о (к и о)к, где о — объект, \ / () — векторы движения, к — камера. Последний способ оказывается предпочтителен.
Но этого остается недостаточно для того, чтобы назвать новый реализм таковым. Придется привнести и нечто небывалое в текущее размышление. Для этого нужно задуматься о том, в чем реально выражена проблема границ экрана, почему он нас раздражает, почему экраны все время растут в размере. И найти ответ на это можно лишь присмотревшись к своему собственному полю зрения. Оно вдруг окажется не целым и всеохватывающим, а составным и подвижным. Наши глаза бесконечно бегают по нему, оставляя следы, которые в реальном времени дорисовывается мозгом до границ наших глазниц, те, в свою очередь, тоже перемещаются при повороте головы или движении корпуса. Конечно, нам не повторить этот процесс искусственно и сполна, ведь состыковать геометрию периферийного зрения, которое даже по цвету отличается от зоны четкого, с ним самим мы не в силах. Но вот стимулировать голову, чтобы она сделала это за нас с видимым на экране вполне можно. Проще говоря, нам надо каждой киноголове дать по киноглазу, чтобы форсировать еще две оси движения, которых так не хватает. Заставить стеклянный объектив шевелиться относительно мнимого поля зрения.
Страшно представить, что будет с человеком, который осознает, что всю жизнь смотрел на любимых героинь мертвым рыбьим глазом, но да ладно. Составим схему для искомого построения: н ›o)][(о‹ н. На ней мы отразили в прямом и переносном смысле суть работы зрачка. Для отображения которого на экране используется подвижный формат, за наводку спасибо старине Эйзенштейну, конечно. Жаль только, что он, будучи в плену логики изобразительного, не догадался поместить в свое окно камеру целиком и хотел лишь ограничивать взгляд на картину, по типу динамического кадрирования. А мы упаковали оптику в мышцу, фактически, что отвечает идее компенсации бесконечной удаленности видимого тем, что оно обратно притягивается взором, зависит от него. Экран становится похож на глаз с подвижным зрачком, но не смотрящим, как у зрителя, а являющим видимое для него. Это как смотреть в полноценное зеркало, ощущая двойное присутствие наблюдателя.
Остается решающая тонкость. При такой подаче мы получаем не проекцию, на самом деле, а презентацию. Имеется в виду, что направление взгляда не влияет на формат. Как бы не вращалась камера в натуре по всем осям, на экране результат съемки отображается и движется лишь в одной плоскости. Что разделяет движение формата и движения камеры, позволяя имитировать подвижность глаза-головы-тела при помощи асинхронной динамики. А это, стоит заметить, формирует уже не просто взгляд на экран, как в Готике, или в экран, как в Ренессансе, а нечто двоякое, среднее между тем и этим. Зритель начинает воображать, домысливать свое движение, приводящее его к перпендикулярному плоскости проекции объектива положению относительно камеры. В действительности же он все еще остается недвижим, наблюдая уже совершившую этот пограничный переход из трехмерного в двухмерное сущность — подвижный формат, пограничное состояние наблюдателя между двумя реальностями и двумя своими итерациями.
Такое незнакомое ощущение нуждается в том, чтобы ему не мешали. Для этого необходимо выбрать правильную форму границ динамического отображения. А так как глаза у нас два и зон четкого зрения тоже две, и мы знаем, что они практически совмещаются по горизонтали при взгляде на объект, любая форма оказывается чуть растянута ими за бока или иначе — сплюснута вертикально. Что мозг всегда пытается исправить. Есть и более внятное объяснение этого эффекта, его влияния на предпочтение тех или иных форм, их заметность для нашего зрения. Но общая суть в том, что квадрат — это плохо, потому что мы знаем, что это квадрат, но видим нечто иное, то же самое и с кругом. Поэтому соотношение пропорций любой математически красивой рамки стоит чуть растягивать по-горизонтали, чтобы снять это противоречие, лишив внимание ненужного раздражителя. Оптимальная деформация пропорций — 1.1:1. Она позволяет обмануть мозг, заставив его поверить, что он уже выполнил всю работу по компенсации этой особенности бинокулярного зрения или что она не нужна.
Дав возможность зрителю смотреть вна экран, прямо как вна действительность, у нас появляется место для материализации действий наблюдателя, важнейшей части кинодвигателя композиции. Ведь мы уже знаем, что как раз они формируют внешний цикл для последовательности объектов. То есть непосредственная связь видимого глазом и самого глаза становится основой для имитации осмысляющего взгляда наблюдателя, а следовательно — его самого, и отношения к видимому. Которое вполне можно циклично повторять, впервые формируя три времени в кино: объективное — движение объектов, субъективное — смена объектов, наблюдателя — относительное движение мультиформата: камеры и ее репрезентации в реальности зрителя. Чередуя значения такого взгляда, мы начинаем мыслить наблюдателя как кинообъект с соответствующим составом: метр, форма, цвет и звучание. Что легко записывается в образце в виде параллельной выражению линии.
Полноценная реализация в виде законченного полномерного произведения, из которого и приведен фрагмент для примера, будет представлена позднее. Можно будет почитать о процессе создания, технологических трудностях, может быть, подсмотреть какие-то дополнительные решения или увидеть неточности в реализации теории. Это кинопередача «Зеркало для наблюдателя».
Но помимо кино, реалистичное отображение типа Мета будет использовано в благих целях. Оно работает на развитие образного мышления, исправляет последствия чрезмерного увлечения экранными развлечениями, разъясняет деятелям визуальных искусств, что такое их творческое видение, показывает, как адекватно реагировать на те или иные вещи и многое-многое другое. Ведь, к сожалению, нельзя научиться видеть, смотря на все снежинки сразу. И понимать, зная бессвязное. Как и наоборот, пустой взгляд остается таковым, где бы он не искал себе подобия.
▼-содержание
▼
В Толк
Введение в выражение языка кино или просто о непонятных словах.
1`Передача
Аудиовизуальное временное произведение широкого вещания, выстроенное определенным образом для последовательного восприятия зрителем/слушателем.
2`Киноматериал
Явления и события ярко выраженного временного характера, данные в беспорядочном или оформленном виде.
2.1`Естественный киноматериал
Личный или заимствованный опыт прямого наблюдения явлений и событий.
2.2`Производный киноматериал
Оформленные и выраженные в виде произведения временного (пространственно-временного) искусства явления и события.
3`Киноформат
Форма и способ организации визуального сообщения на экране.
3.1`Малый киноформат
Организация экранного пространства, при которой только один кинообъект существует одновременно со зрителем.
3.2`Большой киноформат
Организация экранного пространства, при которой два и более кинообъекта существуют одновременно со зрителем.
4`Киновыражение
Собственный кино художественный процесс передачи и активации смыслов с помощью последовательного расположения кинообъектов во времени.
4.1`Кинообраз
Последовательность воспринимаемых кинообъектов (в т.ч. один кинообъект), ограниченная форматом и длиной, мельчайшая смысловая и композиционная единица кинопередачи.
4.1.1`Простой кинообраз
Кинообраз, состоящий только из одного кинообъекта.
4.1.2`Сложный кинообраз
Кинообраз, состоящий из нескольких кинообъектов.
4.1.3`Рядовой кинообраз
Кинообраз, связанный смыслом только с предшествующим кинообразом.
4.1.4`Ключевой кинообраз
Кинообраз, связанный смыслом с кинообразом/кинообразами или целым киновыраженем в памяти зрителя.
4.2`Наблюдатель
Мнимый посредник между кинообъектом и зрителем.
4.3`Кинообъект
Значение или несколько значений в форме предмета.
4.3.1`Согласованный кинообъект
Кинообъект, характеристики которого объединены одним значением.
4.3.2`Несогласованный кинообъект
Кинообъект, характеристики которого не объединены одним значением.
4.3.3`Главный кинообъект
Смысловое ядро кинообраза и единица времени наблюдателя.
4.3.4`Зависимый кинообъект
Второстепенный по смыслу материал кинообраза и основная единица времени наблюдателя.
4.4`Монтаж
Собственный кино инструмент зрительной связи кинообъектов, образовавших смысловую последовательность.
4.4.1`Прямой монтаж
Монтажная связь кинообъектов по одинаковой характеристике.
4.4.2`Косвенный монтаж
Монтажная связь кинообъектов по различной характеристике.
4.4.3`Повторенный монтаж
Монтажная связь кинообъектов, при которой характеристика повторяется.
4.4.4`Продленный монтаж
Монтажная связь кинообъектов, при которой характеристика продолжается.
5`Образец
Знаковая система записи киновыражения.
На деле
Примеры использования объективной теории кино ВЯК.
Приложение 1: Двигатель композиции
Средство доставки сквозного объекта до элементов в их последовательности.
Приложение 2: Перцептивная перспектива
Реалистичная визуализация геометрии объектов в пространстве и времени их наблюдения.
Приложение 3: Сюжет жанра
Механизм работы и метод классификации произведений искусства на структурном уровне языка.
Приложение 4: Монтаж памяти и сознания
Механизм работы образного мышления кинематографиста.
Приложение 5: Постановка реальности
Принцип выражения и постижения языка кино в натуре.