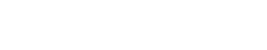- ВЯК › Приложение 3: Сюжет жанра
п.3:
Сюжет жанра, или сказ о том, как кое-что перевернулось, а затем, как по волшебству, исчезло
ОПРЕДЕЛЕНИЕ:
механизм работы и метод классификации произведений искусства на структурном уровне языка.
ОПИСАНИЕ:
Размышление о природе вещей рано или поздно приводит к осознанию бесполезности и несущественности понятия «жанр» при создании последовательности действий. Или понятия «сюжет» при создании последовательности объектов. Или наоборот? Это уже серьезная неразбериха, в которой нужно просто и спокойно разобраться. И начнем мы…
В тридевятом царстве. Скажем, в том самом неведомом государстве, где жили-были люди довольно надменные в отношении к своим предкам. И считали они, что все знают лучше, как жить, как быть, как думать и знать. На деле же ничем не отличались они от своих исторических собратьев, также совершали ошибки, также плодили нелепицы, и оттого не могли выбраться из своего прошлого, извечно повторяя его. Называли классическим то, что пришлось на годы их юности, а о том, что было раньше, знать не знали. На старости лет ругали молодых за то, что те как-то не так такие же, как они сами. И каждый раз, как у таких знакомых нам не понаслышке людей рождались внуки, заводили они сказ о том, как… «Сказ-ка, сказка!» — кричали ребятишки в ответ, и волей-неволей перенимали эту песнь о цикличности человеческого бытия.
20-й век ничем не отличался от нас. Он был ярок и автобиографичен для человечества. Век великих открытий, приподнявших завесу тайны мироздания, и век безумных ошибок, погубивших миллионы жизней, он — причина и следствие себя самого, не больше и не меньше. Но его больше нет, он окончен. Его наследники постепенно уходят. И вот, только спустя четверть все еще нового для нас 21-го, мы начинаем задумываться, а не ошибки ли приводят к открытиям? Не опрометчиво ли считать за фундамент то, чего не было и ста лет назад? И так приходим к мысли, что ныне нам тоже есть что поделать. Исправить неладное, спасти стоящее, позабытое, отречься от дикого и яростного, неверного, да в целом — заняться сервисом. Может быть, так мы сможем ответить на вопрос: почему все искусства в наших руках норовят слиться в одно аморфное литературное подобие. И в чем причина этого общего исторического порыва, характерного для любых наших начинаний — расщепить все сущее вспять, по родовым признакам.
Такая идея, сделать из сказки на ночь платное развлечение, а затем объявить врагом своей прибыли сон могла прийти в голову только очень умному человеку. Человеку, начитавшемуся Проппа в чьем-то переводе на свой язык и ничего не понявшему. Не понявшему, что сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Или все не так? Может, только не постигнув чего-то сполна, и можно создать нечто прекрасное? Компенсировать недосдачу чем-то своим, чувственно верным и, по совпадению, подразумевавшимся в источнике изначально. Но если исследователь всегда становится подобен предмету своего интереса, что сокрыто в этой замечательной морфологии? Что остается в ней невидимо при буквальном прочтении? И возможно ли вернуть в этот мир упущенное волшебство? К сожалению, ошибочно совершенная ошибка не оставляет следов, даже если приводит кого-то к истине. А если этот кто-то возьмется поведать миру о том, что знает, столкнется с базовой проблемой образования. Ведь поняв что-либо, мы сразу забываем, как это можно было не понимать.
Ясно одно, вряд ли нам стоит искать себе помощника в кругу спорщиков, считающих драму сложнее и важнее. Они, хоть и пользуются производной теорией литературы, не могут творить сказки. Разве что слепят колобка из CGI и психологизма, да успокоятся, уверенные в своей духовной наполненности. Так и не осознав, что письменное авторское — калька с устного народного. И если искать первопричины насущных проблем, делать это надо в оригинале. Для драматургов эта миссия невыполнима, на которую все и пойдут в кино перед сном. Ведь рождаемся мы такими же, какими были бы столетия назад. А в нашей приверженности наносному прогрессу уже не осталось корней и связок. Оказались случайно потеряны на бескрайней дороге копий с копий и войн за то, чья из них наиболее полно отражает по сути неизменную действительность. Сполна уже выраженную в народной культуре.
Изначальная претензия Проппа к исследованиям о сказке была адресована только к используемому методу их классификации. Он считал его неподходящим к стоящей задаче, и оказался прав, но ничего не опровергал, а лишь предложил свою замену. Ни одного слова о том, что его новаторское видение должно быть использовано как инструмент создания произведений, не было им сказано. Ему, напротив, удалось разглядеть более масштабные подобия, чем те, что использовались в его время и до него. Они выходили за рамки внутренних отношений элементов сказа, направляя свои связи вовне, а не между собой. Позволили сравнивать и отличать уже цельные композиции. И вполне возможно, благодаря такой чувствительности к тому, что мы теперь отчетливо понимаем и называем монтажом, он стал бы отличным и даже великим кинематографистом. Но, как теперь известно, любой выдающийся представитель того века, далеко шагая, сталкивался с роковой ошибкой интерпретации. Чаще всего приводившей к гибели идеала, к которому тот поначалу стремился. А все из-за наивной веры в разум коллег-читателей, возможности передать эстафету дальше.
Не решившись взять на себя ответственность за определение сюжета и жанра, Пропп срубил на корню свой призыв исследовать атрибуты, или объекты, из вариаций последовательности которых и состоит большая часть рассказов, их художественных образов. Он сделал даже хуже, дав это право в явном виде любому, кто прочел морфологию до конца. А призыв этот заключался в вопросе о предметной связи образов реальности и вымысла, мифа и религии в отношении к вариативному в некотором диапазоне бытию. Как бы мы сказали сейчас, медиа формируют окружающую действительность. Но как бы мы сказали тогда, когда вместо СМИ — был МИФ, а вместо науки — религия? Как подмена названий сказалась на содержательной стороне вопроса, нам вполне известно теперь, по качеству контента все тех же форм. Но вот чего не доставало этому человеку в то время, и что в избытке есть у нас сейчас, так это материала. Легко доступных и живых, современных нам примеров, на которые можно уверенно опереться, исправляя положение. Сейчас сотворено столько настоящих и волшебных сказок на экране, создатели которых даже еще живы, что в пору к ним применять весь этот анализ. По прямому назначению, а не как инструмент обратной инженерии, подделки.
Почти этим здесь мы и попробуем заняться или покажем, как стоит это делать остальным, сравнив функциональное частное от истории и объектный ее состав, набор как будто бы неважных атрибутов, рождающих отношение искусства и жизни, взаимное их влияние. Постараемся понять, что именно создает в нас мысль, и почему мы называем это смыслом. Дополним существующее до состояния инструмента, освободив авторов, заложников похабной, на самом деле, фразы: «делай это с Проппом». Попутно решая ряд неразрешимых проблем: историческую подвижность «жанра», искусственную ограниченность «сюжетов», диффузию «жанров», бессмысленность «сюжетов» и многое-многое другое, пока еще или уже давно скрытое от нашего критического мышления за пеленой экранов, застлавших наши глаза. В качестве предметов исследования-размышления используем относящиеся так или иначе к нашему искусству вещи: изобразительное, литературное и кинематографическое. И как станет понятно, этого скромного набора окажется вполне достаточно, чтобы продолжить дело по аналогии. В любых других искусствах, или даже создать их новые виды.
механизм работы и метод классификации произведений искусства на структурном уровне языка.
ОПИСАНИЕ:
Размышление о природе вещей рано или поздно приводит к осознанию бесполезности и несущественности понятия «жанр» при создании последовательности действий. Или понятия «сюжет» при создании последовательности объектов. Или наоборот? Это уже серьезная неразбериха, в которой нужно просто и спокойно разобраться. И начнем мы…
В тридевятом царстве. Скажем, в том самом неведомом государстве, где жили-были люди довольно надменные в отношении к своим предкам. И считали они, что все знают лучше, как жить, как быть, как думать и знать. На деле же ничем не отличались они от своих исторических собратьев, также совершали ошибки, также плодили нелепицы, и оттого не могли выбраться из своего прошлого, извечно повторяя его. Называли классическим то, что пришлось на годы их юности, а о том, что было раньше, знать не знали. На старости лет ругали молодых за то, что те как-то не так такие же, как они сами. И каждый раз, как у таких знакомых нам не понаслышке людей рождались внуки, заводили они сказ о том, как… «Сказ-ка, сказка!» — кричали ребятишки в ответ, и волей-неволей перенимали эту песнь о цикличности человеческого бытия.
20-й век ничем не отличался от нас. Он был ярок и автобиографичен для человечества. Век великих открытий, приподнявших завесу тайны мироздания, и век безумных ошибок, погубивших миллионы жизней, он — причина и следствие себя самого, не больше и не меньше. Но его больше нет, он окончен. Его наследники постепенно уходят. И вот, только спустя четверть все еще нового для нас 21-го, мы начинаем задумываться, а не ошибки ли приводят к открытиям? Не опрометчиво ли считать за фундамент то, чего не было и ста лет назад? И так приходим к мысли, что ныне нам тоже есть что поделать. Исправить неладное, спасти стоящее, позабытое, отречься от дикого и яростного, неверного, да в целом — заняться сервисом. Может быть, так мы сможем ответить на вопрос: почему все искусства в наших руках норовят слиться в одно аморфное литературное подобие. И в чем причина этого общего исторического порыва, характерного для любых наших начинаний — расщепить все сущее вспять, по родовым признакам.
Такая идея, сделать из сказки на ночь платное развлечение, а затем объявить врагом своей прибыли сон могла прийти в голову только очень умному человеку. Человеку, начитавшемуся Проппа в чьем-то переводе на свой язык и ничего не понявшему. Не понявшему, что сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Или все не так? Может, только не постигнув чего-то сполна, и можно создать нечто прекрасное? Компенсировать недосдачу чем-то своим, чувственно верным и, по совпадению, подразумевавшимся в источнике изначально. Но если исследователь всегда становится подобен предмету своего интереса, что сокрыто в этой замечательной морфологии? Что остается в ней невидимо при буквальном прочтении? И возможно ли вернуть в этот мир упущенное волшебство? К сожалению, ошибочно совершенная ошибка не оставляет следов, даже если приводит кого-то к истине. А если этот кто-то возьмется поведать миру о том, что знает, столкнется с базовой проблемой образования. Ведь поняв что-либо, мы сразу забываем, как это можно было не понимать.
Ясно одно, вряд ли нам стоит искать себе помощника в кругу спорщиков, считающих драму сложнее и важнее. Они, хоть и пользуются производной теорией литературы, не могут творить сказки. Разве что слепят колобка из CGI и психологизма, да успокоятся, уверенные в своей духовной наполненности. Так и не осознав, что письменное авторское — калька с устного народного. И если искать первопричины насущных проблем, делать это надо в оригинале. Для драматургов эта миссия невыполнима, на которую все и пойдут в кино перед сном. Ведь рождаемся мы такими же, какими были бы столетия назад. А в нашей приверженности наносному прогрессу уже не осталось корней и связок. Оказались случайно потеряны на бескрайней дороге копий с копий и войн за то, чья из них наиболее полно отражает по сути неизменную действительность. Сполна уже выраженную в народной культуре.
Изначальная претензия Проппа к исследованиям о сказке была адресована только к используемому методу их классификации. Он считал его неподходящим к стоящей задаче, и оказался прав, но ничего не опровергал, а лишь предложил свою замену. Ни одного слова о том, что его новаторское видение должно быть использовано как инструмент создания произведений, не было им сказано. Ему, напротив, удалось разглядеть более масштабные подобия, чем те, что использовались в его время и до него. Они выходили за рамки внутренних отношений элементов сказа, направляя свои связи вовне, а не между собой. Позволили сравнивать и отличать уже цельные композиции. И вполне возможно, благодаря такой чувствительности к тому, что мы теперь отчетливо понимаем и называем монтажом, он стал бы отличным и даже великим кинематографистом. Но, как теперь известно, любой выдающийся представитель того века, далеко шагая, сталкивался с роковой ошибкой интерпретации. Чаще всего приводившей к гибели идеала, к которому тот поначалу стремился. А все из-за наивной веры в разум коллег-читателей, возможности передать эстафету дальше.
Не решившись взять на себя ответственность за определение сюжета и жанра, Пропп срубил на корню свой призыв исследовать атрибуты, или объекты, из вариаций последовательности которых и состоит большая часть рассказов, их художественных образов. Он сделал даже хуже, дав это право в явном виде любому, кто прочел морфологию до конца. А призыв этот заключался в вопросе о предметной связи образов реальности и вымысла, мифа и религии в отношении к вариативному в некотором диапазоне бытию. Как бы мы сказали сейчас, медиа формируют окружающую действительность. Но как бы мы сказали тогда, когда вместо СМИ — был МИФ, а вместо науки — религия? Как подмена названий сказалась на содержательной стороне вопроса, нам вполне известно теперь, по качеству контента все тех же форм. Но вот чего не доставало этому человеку в то время, и что в избытке есть у нас сейчас, так это материала. Легко доступных и живых, современных нам примеров, на которые можно уверенно опереться, исправляя положение. Сейчас сотворено столько настоящих и волшебных сказок на экране, создатели которых даже еще живы, что в пору к ним применять весь этот анализ. По прямому назначению, а не как инструмент обратной инженерии, подделки.
Почти этим здесь мы и попробуем заняться или покажем, как стоит это делать остальным, сравнив функциональное частное от истории и объектный ее состав, набор как будто бы неважных атрибутов, рождающих отношение искусства и жизни, взаимное их влияние. Постараемся понять, что именно создает в нас мысль, и почему мы называем это смыслом. Дополним существующее до состояния инструмента, освободив авторов, заложников похабной, на самом деле, фразы: «делай это с Проппом». Попутно решая ряд неразрешимых проблем: историческую подвижность «жанра», искусственную ограниченность «сюжетов», диффузию «жанров», бессмысленность «сюжетов» и многое-многое другое, пока еще или уже давно скрытое от нашего критического мышления за пеленой экранов, застлавших наши глаза. В качестве предметов исследования-размышления используем относящиеся так или иначе к нашему искусству вещи: изобразительное, литературное и кинематографическое. И как станет понятно, этого скромного набора окажется вполне достаточно, чтобы продолжить дело по аналогии. В любых других искусствах, или даже создать их новые виды.
А
ИЗО ПРОСТРАНСТВО ОТНОШЕНИЙ
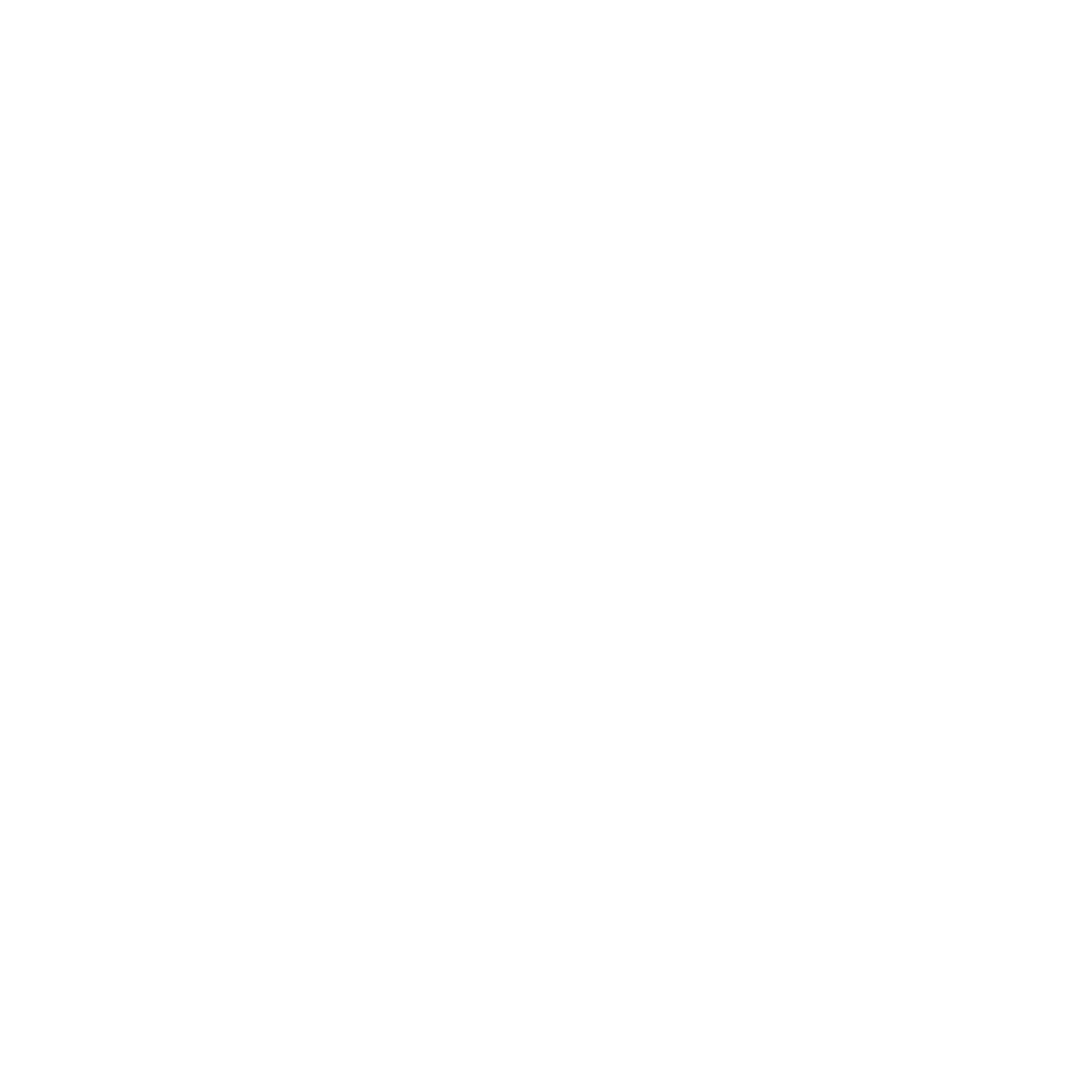
И изобразительное в нашем случае будет представлять детище народного творчества — мем. Довольно редкий и сложный по своему устройству, он передает своему зрителю важную установку. Но давайте по порядку. На картинке мы видим два образа: неуспешного и успешного человека. Размещенные рядом, они подталкивают воспринимающего к сравнению друг друга. Первый изображается на сером фоне, на заднем плане, грустная зеленая фигура стоит на месте, согнувшись под грузом кирпичей, подписанных как оригинальные идеи, и смотрит. На второй — на фоне ярко небесного цвета, на первом плане, веселая нарядная фигура поднимается по импровизированной лестнице из кирпичей, подписанных как копипаста, вверх и вверх. Как говорится, было бы смешно, если б не было так грустно. И правда, кроме формы, по содержанию этот мем также редкий, пограничный. Он вызывает как смех, так и грусть. Но почему это происходит?
Потому что это правда — заявят те, кто ассоциирует себя с первым образом. Также скажут и те, кто считает себя вторым. Однако обе группы совершат ошибку, ведь если бы в нашей действительности все было в точности так, мы бы не посмеивались над таким мемом, а только тосковали по жизни своей жестянке. Как если бы это была стопроцентная ложь, мы бы разве что улыбнулись, и только. Давайте это докажем, мысленно заменив подписи кирпичей. В первом случае мы получим груз из копипасты и несущую его фигуру, которая стоит на месте. Во втором — счастливо идущую вверх по лестнице из оригинальных идей. И снова поймаем грустно-смешную правду для тех, кто считает себя одним, и тех, кто считает себя другим. Но немного с иным подводом к точно такому же чувству и смыслу. Как говорится, ах, если бы все было так просто и везде. Это и есть пограничность, когда в реальности мы видим картину 50 на 50. А в произведении выражаем одну или другую ее половину, с возможностью замены на свою противоположность без потери содержания. Но почему был выбран именно такой мем?
Потому что он сказочен. От замены атрибутов, а на самом деле, значений используемых объектов на противоположные, меняется разве что аудитория. Потому что он одинаково лжив для одних и для других. Потому что он, тем не менее, скрывает в своем нутре некоторую долю истины, и этим цепляет нас. Давайте обнажим ее. Для этого достаточно подобрать нейтральное значение кирпичей, которое не сбивало бы с толку, не уводило бы зрителя в ассоциации к социальным конструктам. И это достигается простым стиранием с них надписей. В таком виде мы получаем два образа: человека, коллекционирующего слепленные кирпичи, которые начинают его тяготить, тормозить. И человека, строющего из таковых себе лестницу легкого роста, ведь он оставляет пройденное позади. И это уже голая правда, которая и является причиной того грустного осознания, что вызывает исходный мем наравне с иронией и смехом внешней атрибутики, привязанной к контексту. Но что мы только что поняли на самом деле?
Что, в реальности, мы не видим на этом изображении ни кого-то, несущего какой-то груз, ни кого-то, кто шел бы по какой-то лестнице. Мы видим лишь пространственные отношения набора абсолютно статичных объектов, которые и заставляют нас думать, что они как-то взаимодействуют. Кирпичи попросту помещены над головой одного так, что его руки их как будто бы держат, а спина под их весом сгинается. И под ноги другого, в форме лестницы, над которой фигура запечатлена в позе, похожей на идушего по ступеням человека. И получается, что мысли в нас это изображение создает только в том случае, когда эти объекты подобраны не случайно, а их композиция играет роль увязывающей подмены действительного взаимодействия. Но тогда, для полноценного исследования смыслов и чувств, идеи и установки, заложенных в это произведение, мы обошлись лишь операциями с объектами, даже не задумываясь об их композиционном отношении друг к другу. Как-то это не вяжется с определением сюжета, что должен бы за эти мысли отвечать.
И действительно, пока практикующие художники строят целые миры из своих художественных образов, преображают реальность, тем самым склоняя ее к одному или другому исходу. Называют сюжетом набор явленных элементов, а жанром их композицию. Обленившиеся искусствоведы самонадеянно применяют теорлит направо и налево, настаивая на обратном. Считают пейзажем все то, где есть лес, а портретом все то, где есть чье-то лицо, хотя никакой проблемы сделать портрет дерева и пейзаж гримас не составляет труда. Но, предположим, что все они по сути правы, просто сложилось так, что знание о структуре временного произведения искусства применилось к пространственному неудачно. А бравые творцы успешно защитили свое искусство, благодаря уходящей в века традиции. Ведь время и пространство так отличаются, так не похожи, и ни в коем случае не являются лишь двумя точками зрения на одно и то же, с разной степенью подвижности. Перейдем к исследованию литературного примера.
Потому что это правда — заявят те, кто ассоциирует себя с первым образом. Также скажут и те, кто считает себя вторым. Однако обе группы совершат ошибку, ведь если бы в нашей действительности все было в точности так, мы бы не посмеивались над таким мемом, а только тосковали по жизни своей жестянке. Как если бы это была стопроцентная ложь, мы бы разве что улыбнулись, и только. Давайте это докажем, мысленно заменив подписи кирпичей. В первом случае мы получим груз из копипасты и несущую его фигуру, которая стоит на месте. Во втором — счастливо идущую вверх по лестнице из оригинальных идей. И снова поймаем грустно-смешную правду для тех, кто считает себя одним, и тех, кто считает себя другим. Но немного с иным подводом к точно такому же чувству и смыслу. Как говорится, ах, если бы все было так просто и везде. Это и есть пограничность, когда в реальности мы видим картину 50 на 50. А в произведении выражаем одну или другую ее половину, с возможностью замены на свою противоположность без потери содержания. Но почему был выбран именно такой мем?
Потому что он сказочен. От замены атрибутов, а на самом деле, значений используемых объектов на противоположные, меняется разве что аудитория. Потому что он одинаково лжив для одних и для других. Потому что он, тем не менее, скрывает в своем нутре некоторую долю истины, и этим цепляет нас. Давайте обнажим ее. Для этого достаточно подобрать нейтральное значение кирпичей, которое не сбивало бы с толку, не уводило бы зрителя в ассоциации к социальным конструктам. И это достигается простым стиранием с них надписей. В таком виде мы получаем два образа: человека, коллекционирующего слепленные кирпичи, которые начинают его тяготить, тормозить. И человека, строющего из таковых себе лестницу легкого роста, ведь он оставляет пройденное позади. И это уже голая правда, которая и является причиной того грустного осознания, что вызывает исходный мем наравне с иронией и смехом внешней атрибутики, привязанной к контексту. Но что мы только что поняли на самом деле?
Что, в реальности, мы не видим на этом изображении ни кого-то, несущего какой-то груз, ни кого-то, кто шел бы по какой-то лестнице. Мы видим лишь пространственные отношения набора абсолютно статичных объектов, которые и заставляют нас думать, что они как-то взаимодействуют. Кирпичи попросту помещены над головой одного так, что его руки их как будто бы держат, а спина под их весом сгинается. И под ноги другого, в форме лестницы, над которой фигура запечатлена в позе, похожей на идушего по ступеням человека. И получается, что мысли в нас это изображение создает только в том случае, когда эти объекты подобраны не случайно, а их композиция играет роль увязывающей подмены действительного взаимодействия. Но тогда, для полноценного исследования смыслов и чувств, идеи и установки, заложенных в это произведение, мы обошлись лишь операциями с объектами, даже не задумываясь об их композиционном отношении друг к другу. Как-то это не вяжется с определением сюжета, что должен бы за эти мысли отвечать.
И действительно, пока практикующие художники строят целые миры из своих художественных образов, преображают реальность, тем самым склоняя ее к одному или другому исходу. Называют сюжетом набор явленных элементов, а жанром их композицию. Обленившиеся искусствоведы самонадеянно применяют теорлит направо и налево, настаивая на обратном. Считают пейзажем все то, где есть лес, а портретом все то, где есть чье-то лицо, хотя никакой проблемы сделать портрет дерева и пейзаж гримас не составляет труда. Но, предположим, что все они по сути правы, просто сложилось так, что знание о структуре временного произведения искусства применилось к пространственному неудачно. А бравые творцы успешно защитили свое искусство, благодаря уходящей в века традиции. Ведь время и пространство так отличаются, так не похожи, и ни в коем случае не являются лишь двумя точками зрения на одно и то же, с разной степенью подвижности. Перейдем к исследованию литературного примера.
Б
ЛИТЕРА ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ
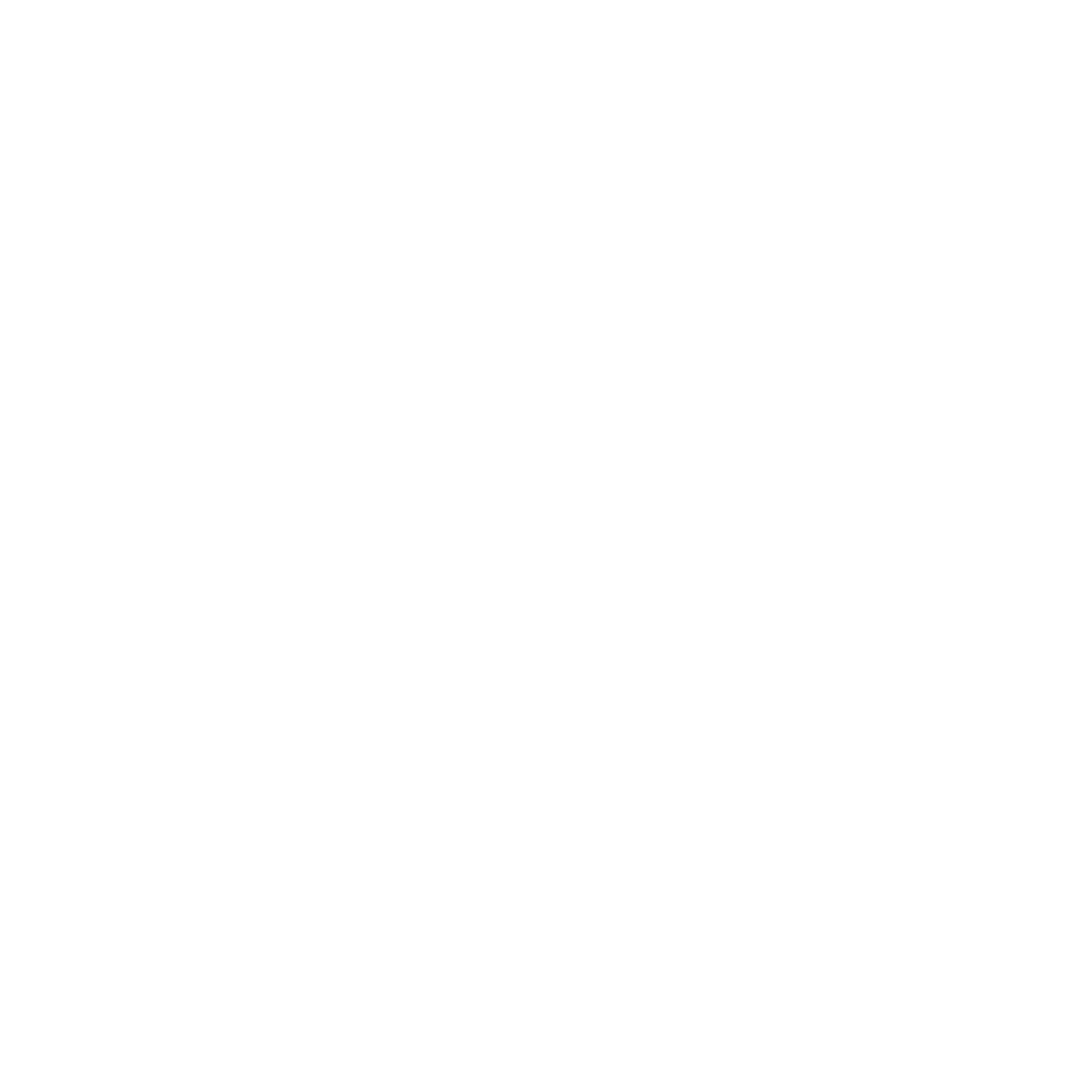
Чем и отличается язык слов от других форм варажения мыслей, так это тем, что взаимодействия представляемых по ходу чтения предметов могут быть даны в нем непосредственно. Напрямую в виде символических своих представлений, а не косвенных их соотношений. Но это характерно лишь для прозы, о поэзии мы поговорим потом. Данный же пример позволяет выделить в своем составе две отдельные конструкции: обозначения атрибутов, объектов и, отдельно, обозначения их функций, действий. В первом случае это будут существительные и все, что их описывает, а во втором — глаголы и их вариации. Что подталкивает нас к более глубокому проникновению в структуру любого другого языка, где такого удобного упрощения нам не найти. Так, я, магазин и хлеб могут рассматриваться вполне самостоятельно от пошел и купил. Что мы и сделаем в процессе постижения смысла данного высказывания, а если быть точнее, его обоснования через связь сюжета и жанра.
Для начала давайте попробуем разобрать объектный состав этой фразы. Я, магазин, хлеб, также как магазин, хлеб, я и все остальные вариации последовательности чтения данных слов не влияют на складывающийся в голове образ. Который состоит из визуализированных предметов, для каждого читателя своих, конечно. А если это образ, то в нем можно выделить главный и зависимые объекты. Воспользуемся теорией ВЯК и уберем местоимение, получим последовательность: магазин, хлеб. Что кажется вполне логичным, ведь хлеб можно найти в любом продуктовом магазине. Попробуем убрать хлеб и получим себя и магазин, что тоже вполне себе представимо, если мы станем покупателями. Но при попытке убрать магазин, мы получаем непредставимое нечто: я, хлеб. Да, здесь можно поспорить, заявив, что я могу поместить хлеб в себя, съев его. Однако вообразить это невозможно, так как человек, внутри которого находится хлеб, никак не отличим от такового, внутри которого хлеба нет. А дополнительное действие поедания одного объекта другим никак не окрашивает их исходную данность, из-за чего и не ведет к формированию в голове образа, позволяя представить лишь аморфное себя самое. Таким способом и выявляется главный объект этого образа — магазин, и зависимые — я и хлеб.
Теперь обратим внимание на то, какие связи устанавливают глаголы пошел и купил между объектами нашего образа в высказывании. Для этого, согласно теории литературы, угадаем, подберем, а затем и зададим наводящие вопросы: кто, куда, и что. Пошел кто? — Я. Пошел куда? — В магазин. Купил кто? — Я. Купил что? — Хлеб. И увидим, что один из этих вопросов повторился два раза, выделяя главное действующее лицо этой фразы — местоимение я. Выходит, искусственно отделенные в самостоятельные единицы языка действия своей последовательностью меняют наше восприятие главного предмета. Тем самым и создавая смысл? Попробуем это проверить. Изменим фразу так, чтобы главным действующим лицом остался главный объект образа. Получим следующее: магазин закупил хлеб и привел меня. Увы, мы так не говорим, это — точно неправда и почти бессмыслица. Но почему, несмотря на непреодолимую дезориентацию от прочтения такой фразы, мы все еще пытаемся ее осмыслить? Оставляем ей шанс и аккуратно используем слово почти?
Для ответа на этот вопрос вернемся к сюжету и жанру, их поиску, сохраняя наличие смысла. Все дальнейшие перестановки объектов, адекватные для голого образа, оказываются невозможны без его потери в целой фразе, снабженной жесткой структурой действия. Например, магазин пошел в меня и купил хлеб или хлеб пошел в меня и купил магазин. Напротив, та же операция с глаголами остается удобоваримой: я купил магазин и пошел за хлебом, даже рождает улыбку. Поэтому мы попробуем трансформировать эту фразу иначе, меняя не роли или порядок слов, а только их значения. Возьмем вместо слова купил слово украл. Получим: я пошел в магазин и украл хлеб. Внимание, вопрос, это «о, сюжет!» или сменился жанр с бытового на криминальный? Или вместо слова пошел впишем пополз: я пополз в магазин и купил хлеб. Трагично, не прадва ли? А вот, что мы получим, если начнем делать это с объектами, менять их значение. Я пошел в магазин и купил духовку. Или бомж пошел в магазин и купил хлеб. Изменилось ли отношение литературного высказывания и реальности при такой трансформации? Конечно, история заиграла новыми красками.
Получается, что фраза магазин закупил хлеб и привел меня, очень похожая на высказывание ребенка, который мыслит только образами, пока взрослые его не испортят в погоне за каким-то содержанием. Хоть и приводит нас к ощущению явного диссонанса жанровой и сюжетной структуры, не теряет ни первой, ни второй. А значит, сохраняет возможность стать осмысленной. Ведь если понимать под сюжетом композицию атрибутов, а под жанром композицию их функциональной взаимосвязи, мы вполне можем это сделать. Подогнать одно под другое, с эффектом вспышки смысла. Делаем. Магазин закупил хлеб и тот теперь ждет меня, лежа на полке. А я пойду в магазин, да и куплю этот самый хлеб. Вот так, сдвинув грамматическую основу относительно образной, мы и получили смысл. Остается понять, как это все применить в кино, где опять нет никакого действия, в сравнении с прозаической литературой. Да и привычной изобразительности не сыскать, чтобы заменить функции на отношения элементов художественного пространства. Благо, все это и не нужно, не представляет для кинематографии никакой сложности в выражении таких же содержательных, как в иных языках, мыслей, чувств и идей.
Для начала давайте попробуем разобрать объектный состав этой фразы. Я, магазин, хлеб, также как магазин, хлеб, я и все остальные вариации последовательности чтения данных слов не влияют на складывающийся в голове образ. Который состоит из визуализированных предметов, для каждого читателя своих, конечно. А если это образ, то в нем можно выделить главный и зависимые объекты. Воспользуемся теорией ВЯК и уберем местоимение, получим последовательность: магазин, хлеб. Что кажется вполне логичным, ведь хлеб можно найти в любом продуктовом магазине. Попробуем убрать хлеб и получим себя и магазин, что тоже вполне себе представимо, если мы станем покупателями. Но при попытке убрать магазин, мы получаем непредставимое нечто: я, хлеб. Да, здесь можно поспорить, заявив, что я могу поместить хлеб в себя, съев его. Однако вообразить это невозможно, так как человек, внутри которого находится хлеб, никак не отличим от такового, внутри которого хлеба нет. А дополнительное действие поедания одного объекта другим никак не окрашивает их исходную данность, из-за чего и не ведет к формированию в голове образа, позволяя представить лишь аморфное себя самое. Таким способом и выявляется главный объект этого образа — магазин, и зависимые — я и хлеб.
Теперь обратим внимание на то, какие связи устанавливают глаголы пошел и купил между объектами нашего образа в высказывании. Для этого, согласно теории литературы, угадаем, подберем, а затем и зададим наводящие вопросы: кто, куда, и что. Пошел кто? — Я. Пошел куда? — В магазин. Купил кто? — Я. Купил что? — Хлеб. И увидим, что один из этих вопросов повторился два раза, выделяя главное действующее лицо этой фразы — местоимение я. Выходит, искусственно отделенные в самостоятельные единицы языка действия своей последовательностью меняют наше восприятие главного предмета. Тем самым и создавая смысл? Попробуем это проверить. Изменим фразу так, чтобы главным действующим лицом остался главный объект образа. Получим следующее: магазин закупил хлеб и привел меня. Увы, мы так не говорим, это — точно неправда и почти бессмыслица. Но почему, несмотря на непреодолимую дезориентацию от прочтения такой фразы, мы все еще пытаемся ее осмыслить? Оставляем ей шанс и аккуратно используем слово почти?
Для ответа на этот вопрос вернемся к сюжету и жанру, их поиску, сохраняя наличие смысла. Все дальнейшие перестановки объектов, адекватные для голого образа, оказываются невозможны без его потери в целой фразе, снабженной жесткой структурой действия. Например, магазин пошел в меня и купил хлеб или хлеб пошел в меня и купил магазин. Напротив, та же операция с глаголами остается удобоваримой: я купил магазин и пошел за хлебом, даже рождает улыбку. Поэтому мы попробуем трансформировать эту фразу иначе, меняя не роли или порядок слов, а только их значения. Возьмем вместо слова купил слово украл. Получим: я пошел в магазин и украл хлеб. Внимание, вопрос, это «о, сюжет!» или сменился жанр с бытового на криминальный? Или вместо слова пошел впишем пополз: я пополз в магазин и купил хлеб. Трагично, не прадва ли? А вот, что мы получим, если начнем делать это с объектами, менять их значение. Я пошел в магазин и купил духовку. Или бомж пошел в магазин и купил хлеб. Изменилось ли отношение литературного высказывания и реальности при такой трансформации? Конечно, история заиграла новыми красками.
Получается, что фраза магазин закупил хлеб и привел меня, очень похожая на высказывание ребенка, который мыслит только образами, пока взрослые его не испортят в погоне за каким-то содержанием. Хоть и приводит нас к ощущению явного диссонанса жанровой и сюжетной структуры, не теряет ни первой, ни второй. А значит, сохраняет возможность стать осмысленной. Ведь если понимать под сюжетом композицию атрибутов, а под жанром композицию их функциональной взаимосвязи, мы вполне можем это сделать. Подогнать одно под другое, с эффектом вспышки смысла. Делаем. Магазин закупил хлеб и тот теперь ждет меня, лежа на полке. А я пойду в магазин, да и куплю этот самый хлеб. Вот так, сдвинув грамматическую основу относительно образной, мы и получили смысл. Остается понять, как это все применить в кино, где опять нет никакого действия, в сравнении с прозаической литературой. Да и привычной изобразительности не сыскать, чтобы заменить функции на отношения элементов художественного пространства. Благо, все это и не нужно, не представляет для кинематографии никакой сложности в выражении таких же содержательных, как в иных языках, мыслей, чувств и идей.
В
КИНО ВРЕМЯ МОНТАЖА
Для того, чтобы хотя бы явить пример кино, не говоря уже о том, чтобы найти в нем какой-то сюжет и жанр, сегодня нам приходится снова его изобретать. Делать новое искусство для новой страны, тогда как исторический момент для этого давно пройден. Успехи прошлого затеряны в сорняках арт-терапевтических практик. А хроника образцового процесса железно архивирована. И если изредка и становится предметом для выставки достижений народного хозяйства, служит лишь в роли памятника уже не пойми почему немому, великому былому. Но разве мы не сыны своих отцов, что сыны своим отцам? Чего стоит нам признать это родство, открыв для себя возможность не на словах, а на деле мощь повторить? И развить, конечно, а не только лишь бравады ради. Такие вот дела, с невежеством и неуверенностью приходится бороться тяжелым пафосом. Так, возвращаясь к азам, надо задать себе правильный вопрос. Вопрос о предмете, что собственно из себя и представляет кино.
И у нас есть довольно хорошая фраза, описывающая искомое: иллюзия течения времени. Разберем ее подробнее, чтобы понять смысл, это мы теперь умеем. Иллюзия — это такой эффект восприятия, когда несуществующее кажется нам существующим. Течение — действие, обозначающее процесс перемещения воды в пространстве. А время — эффект мышления, позволяющий наблюдать перемены в пространстве и себе самих. Получаем кажущееся действие меняющегося так или иначе пространства. И вроде бы на этом можно остановиться, но все же остается непонятным, как именно такое пространство должно действовать в нашем воображении. Чтобы ответить на это, надо подумать, почему люди вообще сделали из текучей воды и глагол, и прилагательное, и отглагольное существительное, да все основные части речи, в общем. Чем так примечательна вода, которая течет? Ответ прост — своей целостностью, она одна умудряется постоянно менять свое положение, оставаясь неразрывной. И раз уж мы решились понять это описание кино целиком, разобьем пространство на объекты, его составляющие. И выведем, что кино — это кажущаяся неразрывность сменяющихся объектов.
Так мы, жонглируя элементами исходной конструкции, при том не меняя ее, вывели более конкретную вариацию из мутного образного высказывания. К слову о сюжете и жанре, заметьте. Но что в действительности и получили, так это состоящее из двух частей определение и их взаимосвязь. И чтобы перейти уже к чему-то более похожему на материальное и рабочее, разорвем эту связь, на время забудем о ней. И поищем, от чего из уже существующего можно оттолкнуться при воссоздании кино. А именно, знакомые термины и понятные понятия. На какое искусство похоже словосочетание «сменяющиеся объекты»? — На прозаическую литературу, конечно, хоть в ней мы и видим немного другое, последовательность слов. То есть чисто символические сущности, играющие роль представимых предметов, а когда и их взаимодействий. А на какое искусство нас наводит слово «неразрывность» или «целостность»? — На изобразительное, разумеется, где композиция отношений увязывает предметы во что-то смысло- и чувство- образующее. Но есть ли в нашем распоряжении живой пример искусства, объединяющего сюжетную механику литературы и жанровую механику изображения? — Да, это поэзия. Приблизимся к кино через нее.
«Ночь, улица, фонарь, аптека» — самое запоминающееся выражение Блока, которое он написал в 1912-м году. Тогда, когда еще не существовало никакого кино как искусства и новых стран, которым оно бы пригодилось, но идея витала в воздухе и иногда залетала на экраны. К сожалению, ни одного исследования одноименного стихотворения по существу до сих пор нет, да и не может быть без ответа на вопрос о причинах наличия смысла в языке. Однако мы видим, что одни считают его выдающимся жанровым экспериментом, а другие — великолепно точным сюжетом, передающим неизгладимое мировоззрение большинства людей. И этого нам достаточно, чтобы выбрать именно этот материал для ответа на вопрос: а почему это так популярно, похоже на наше искусство и самодостаточно? Ведь из тех, кто знаком с этим произведением, редко найдется тот, кто сможет припомнить стих целиком.
Для начала поступим как все и сконцентрируемся только на первой строчке. В ней мы видим как будто бы простое перечисление легко представимых образов. А объекты — те же образы, пока мы не проникнем в их нутро и не поделим, односложные. Так что налицо перечисление объектов, да не простых, а складывающихся в нашей голове в один составной, многосложный образ. А раз так, мы можем выделить в нем главный и зависимые части. Результатом окажется ночь — главный объект, и улица, фонарь, аптека — зависимые. При проверке этого утверждения могут возникнуть трудности, так как здесь мы имеем целых 4, из возможных 7-ми, в среднем по человечеству удерживаемых в короткой памяти представления. А это сложновато, прямо как читать предыдущее предложение. Поскольку операция сравнения между двумя последовательностями из трех предметов занимает последнюю доступную нам ячейку. Приходится сопоставлять четыре возможные вариации раздельно целых шесть раз.
Но хорошо. С составом образа, сюжетом разобрались, теперь надо открыть жанр и тем самым доказать наличие смысла. Мы знаем, что все поэтическое завязано на фонетике, этот пример не исключение. При произношении написанных символов, мы заканчиваем первое слово на согласный звук, второе начинаем на гласный и снова гласным завершаем, третье — согл-согл, четвертое — гл-гл. Так достигается легкость прочтения, неразрывность речи. Есть и другие способы, конечно, можно повторять тянущиеся согласные или ставить в ударную позицию одни и те же гласные, но Блок выбрал поступить так. А с мнением гениев мы не спорим. Да и в целом, эти методы применимы и к прозе, о чем многие нынче забыли. Что ж, становится понятно, что выбор слов уже совсем не случаен. Это не какие-то дождь, здравница, болезнь, микстура. Но все-таки этого недостаточно для такой сложной вещи, как замена действия.
Что еще служит для увязки слов в поэзии? — Р-р-итм! А именно, помимо этого авангардного выкрика, постулирующего делать такое с буквами, чередование ударных и безударных слогов. Из которых складывается метр отдельных слов во время произношения. И темп, через смену таковых при помощи пауз, пробелов. Что уже похоже на то, что нам нужно. Попробуем дать ритмическую структуру Блока в условных обозначениях, где у — ударный, б — безударный слоги. У___У-б-б___б-У___б-У-б. Но вообще-то это тоже не все, ведь слоги бывают закрытые и открытые, окруженные согласными слева или справа, или везде. Обозначим это буквой з. зУз___У_зб_зб___зб_зУз___бз_зУ_зб. Что нам это дало, так это возможность понять, как функционирует ритм, схема которого остается произносимой. Теперь можно разобрать его голую бессодержательную структуру. И обнаружить, что в пути от начала строки к ее концу, этот даровитый ударник, слог сначала стремится сделать шаг влево, потом шаг вправо, совершая попытку к бегству. В финале же оказывается пойман в клещи как безударных, так и согласных. Примечательно, что изначально он уже зажат этими изменниками и, в какой-то момент, даже успешно вырывается из их круга, но только для того, чтобы затем снова утонуть в союзе бездарных с согласными, то есть безударных, конечно.
Да, искусство — это для совсем не способных к рационализму людей, сугубо чувственная вещь. Но ладно, в этом рассуждении мы иронично схитрили и попытались намекнуть, что если использовать запись ритмической структуры как художественную композицию, а вместо буквенных обозначений подставить напрашивающиеся и легко вообразимые объекты. Мы совершим серьезный жанровый переход в другой принцип формирования. Сменим вид искусства, найдя в нем исток смысла, возможный прообраз автора, от которого и была взята только жанровая составляющая, а затем трансформирована в нужную функциональную роль, где сюжетная часть оказалась заменена целиком. На самом же деле, ритмическая структура всегда тянется от элементарных частей к некоему общему сборному конструкту, в котором были бы представлены все эти части. Поэтому мы на выходе и получили не бессмыслицу. Ритм перетягивает главенство ночи в образе к главенству аптеки в готовой фразе. Что, при прочтении, и создает в нас мысль о том, как наблюдая вечный образ ночного города, мы оказываемся безнадежно им окружены, и в нем подавлены. А выхода из этой ситуации нет. Но правда нет ли? Пришло время взглянуть и на оставшиеся строчки.
Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века — Все будет так. Исхода нет. Умрешь — начнешь опять сначала И повторится все, как встарь: Ночь, ледяная рябь канала, Аптека, улица, фонарь. Здесь, чтобы разъяснить читателю первую строку, свет фонаря делается молчаливым собеседником лирического героя. Как? При помощи одной грамматической основы на несколько предложений и строк: свет-живи-умрешь-начнешь. Также отдельно обозначается и задействуется категория окружения, разбивая бытие фонаря ответными функциями: все-будет-повторится. Обратите внимание на наклонение этих сказуемых. То есть главный объект исходного образа снова меняется, но уже другими, описанными в прозаическом примере средствами. В финале же дается новый, еще более длинный образ, включающий в себя исходный: зУз___збзбзУб___зУз___збзУзб_____бз_зУ_зб___У_зб_зб___зб_зУз. Но теперь главный его объект отделен от зависимых новым зависимым и даже сменой строки. Что и создает эффект безобразного перечисления в последней: аптека, улица, фонарь. А ночь и ледяная рябь канала становятся смысловым финалом поэтического текста и должны рассматриваться как законченный образ.
В нем ритмический рисунок последнего слова включает в себя таковые первых трех и является жанрово выделенным. А значит, мы должны понимать некоторый смысл. Для этого запишем все два образа, на которых и строится данное стихотворение, без каких-либо разъяснений, выполненных в другом жанре: Ночь, улица, фонарь, аптека. Ночь, ледяная рябь канала. И это выражение болезненной смерти наблюдателя данной последовательности мысли, состоящей из увиденного им перед концом, к сожалению. Что ж, остается надеяться, что все повторится, как встарь, и мы сможем начать сначала. Допустив, что Александр Александрович удачно сходил в кинотеатр и точнейшим образом предугадал в поэтической форме его структуру. В которой кинематографические блоки соседствуют с театральными героическими действиями, объясняющими еще не привыкшему зрителю новый вид выражения мысли. Остается заменить слова обратно на визуализированные объекты, лирического героя на наблюдателя, а фонетический строй на монтаж. Не забыв при этом и завет авангардистов, открывших, что слоги — лишь удобные образы чтения букв, и что рифмы, что ритмы — суть результат применения одного и того же инструмента. На этой радостной ноте переходим к кино.
И у нас есть довольно хорошая фраза, описывающая искомое: иллюзия течения времени. Разберем ее подробнее, чтобы понять смысл, это мы теперь умеем. Иллюзия — это такой эффект восприятия, когда несуществующее кажется нам существующим. Течение — действие, обозначающее процесс перемещения воды в пространстве. А время — эффект мышления, позволяющий наблюдать перемены в пространстве и себе самих. Получаем кажущееся действие меняющегося так или иначе пространства. И вроде бы на этом можно остановиться, но все же остается непонятным, как именно такое пространство должно действовать в нашем воображении. Чтобы ответить на это, надо подумать, почему люди вообще сделали из текучей воды и глагол, и прилагательное, и отглагольное существительное, да все основные части речи, в общем. Чем так примечательна вода, которая течет? Ответ прост — своей целостностью, она одна умудряется постоянно менять свое положение, оставаясь неразрывной. И раз уж мы решились понять это описание кино целиком, разобьем пространство на объекты, его составляющие. И выведем, что кино — это кажущаяся неразрывность сменяющихся объектов.
Так мы, жонглируя элементами исходной конструкции, при том не меняя ее, вывели более конкретную вариацию из мутного образного высказывания. К слову о сюжете и жанре, заметьте. Но что в действительности и получили, так это состоящее из двух частей определение и их взаимосвязь. И чтобы перейти уже к чему-то более похожему на материальное и рабочее, разорвем эту связь, на время забудем о ней. И поищем, от чего из уже существующего можно оттолкнуться при воссоздании кино. А именно, знакомые термины и понятные понятия. На какое искусство похоже словосочетание «сменяющиеся объекты»? — На прозаическую литературу, конечно, хоть в ней мы и видим немного другое, последовательность слов. То есть чисто символические сущности, играющие роль представимых предметов, а когда и их взаимодействий. А на какое искусство нас наводит слово «неразрывность» или «целостность»? — На изобразительное, разумеется, где композиция отношений увязывает предметы во что-то смысло- и чувство- образующее. Но есть ли в нашем распоряжении живой пример искусства, объединяющего сюжетную механику литературы и жанровую механику изображения? — Да, это поэзия. Приблизимся к кино через нее.
«Ночь, улица, фонарь, аптека» — самое запоминающееся выражение Блока, которое он написал в 1912-м году. Тогда, когда еще не существовало никакого кино как искусства и новых стран, которым оно бы пригодилось, но идея витала в воздухе и иногда залетала на экраны. К сожалению, ни одного исследования одноименного стихотворения по существу до сих пор нет, да и не может быть без ответа на вопрос о причинах наличия смысла в языке. Однако мы видим, что одни считают его выдающимся жанровым экспериментом, а другие — великолепно точным сюжетом, передающим неизгладимое мировоззрение большинства людей. И этого нам достаточно, чтобы выбрать именно этот материал для ответа на вопрос: а почему это так популярно, похоже на наше искусство и самодостаточно? Ведь из тех, кто знаком с этим произведением, редко найдется тот, кто сможет припомнить стих целиком.
Для начала поступим как все и сконцентрируемся только на первой строчке. В ней мы видим как будто бы простое перечисление легко представимых образов. А объекты — те же образы, пока мы не проникнем в их нутро и не поделим, односложные. Так что налицо перечисление объектов, да не простых, а складывающихся в нашей голове в один составной, многосложный образ. А раз так, мы можем выделить в нем главный и зависимые части. Результатом окажется ночь — главный объект, и улица, фонарь, аптека — зависимые. При проверке этого утверждения могут возникнуть трудности, так как здесь мы имеем целых 4, из возможных 7-ми, в среднем по человечеству удерживаемых в короткой памяти представления. А это сложновато, прямо как читать предыдущее предложение. Поскольку операция сравнения между двумя последовательностями из трех предметов занимает последнюю доступную нам ячейку. Приходится сопоставлять четыре возможные вариации раздельно целых шесть раз.
Но хорошо. С составом образа, сюжетом разобрались, теперь надо открыть жанр и тем самым доказать наличие смысла. Мы знаем, что все поэтическое завязано на фонетике, этот пример не исключение. При произношении написанных символов, мы заканчиваем первое слово на согласный звук, второе начинаем на гласный и снова гласным завершаем, третье — согл-согл, четвертое — гл-гл. Так достигается легкость прочтения, неразрывность речи. Есть и другие способы, конечно, можно повторять тянущиеся согласные или ставить в ударную позицию одни и те же гласные, но Блок выбрал поступить так. А с мнением гениев мы не спорим. Да и в целом, эти методы применимы и к прозе, о чем многие нынче забыли. Что ж, становится понятно, что выбор слов уже совсем не случаен. Это не какие-то дождь, здравница, болезнь, микстура. Но все-таки этого недостаточно для такой сложной вещи, как замена действия.
Что еще служит для увязки слов в поэзии? — Р-р-итм! А именно, помимо этого авангардного выкрика, постулирующего делать такое с буквами, чередование ударных и безударных слогов. Из которых складывается метр отдельных слов во время произношения. И темп, через смену таковых при помощи пауз, пробелов. Что уже похоже на то, что нам нужно. Попробуем дать ритмическую структуру Блока в условных обозначениях, где у — ударный, б — безударный слоги. У___У-б-б___б-У___б-У-б. Но вообще-то это тоже не все, ведь слоги бывают закрытые и открытые, окруженные согласными слева или справа, или везде. Обозначим это буквой з. зУз___У_зб_зб___зб_зУз___бз_зУ_зб. Что нам это дало, так это возможность понять, как функционирует ритм, схема которого остается произносимой. Теперь можно разобрать его голую бессодержательную структуру. И обнаружить, что в пути от начала строки к ее концу, этот даровитый ударник, слог сначала стремится сделать шаг влево, потом шаг вправо, совершая попытку к бегству. В финале же оказывается пойман в клещи как безударных, так и согласных. Примечательно, что изначально он уже зажат этими изменниками и, в какой-то момент, даже успешно вырывается из их круга, но только для того, чтобы затем снова утонуть в союзе бездарных с согласными, то есть безударных, конечно.
Да, искусство — это для совсем не способных к рационализму людей, сугубо чувственная вещь. Но ладно, в этом рассуждении мы иронично схитрили и попытались намекнуть, что если использовать запись ритмической структуры как художественную композицию, а вместо буквенных обозначений подставить напрашивающиеся и легко вообразимые объекты. Мы совершим серьезный жанровый переход в другой принцип формирования. Сменим вид искусства, найдя в нем исток смысла, возможный прообраз автора, от которого и была взята только жанровая составляющая, а затем трансформирована в нужную функциональную роль, где сюжетная часть оказалась заменена целиком. На самом же деле, ритмическая структура всегда тянется от элементарных частей к некоему общему сборному конструкту, в котором были бы представлены все эти части. Поэтому мы на выходе и получили не бессмыслицу. Ритм перетягивает главенство ночи в образе к главенству аптеки в готовой фразе. Что, при прочтении, и создает в нас мысль о том, как наблюдая вечный образ ночного города, мы оказываемся безнадежно им окружены, и в нем подавлены. А выхода из этой ситуации нет. Но правда нет ли? Пришло время взглянуть и на оставшиеся строчки.
Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века — Все будет так. Исхода нет. Умрешь — начнешь опять сначала И повторится все, как встарь: Ночь, ледяная рябь канала, Аптека, улица, фонарь. Здесь, чтобы разъяснить читателю первую строку, свет фонаря делается молчаливым собеседником лирического героя. Как? При помощи одной грамматической основы на несколько предложений и строк: свет-живи-умрешь-начнешь. Также отдельно обозначается и задействуется категория окружения, разбивая бытие фонаря ответными функциями: все-будет-повторится. Обратите внимание на наклонение этих сказуемых. То есть главный объект исходного образа снова меняется, но уже другими, описанными в прозаическом примере средствами. В финале же дается новый, еще более длинный образ, включающий в себя исходный: зУз___збзбзУб___зУз___збзУзб_____бз_зУ_зб___У_зб_зб___зб_зУз. Но теперь главный его объект отделен от зависимых новым зависимым и даже сменой строки. Что и создает эффект безобразного перечисления в последней: аптека, улица, фонарь. А ночь и ледяная рябь канала становятся смысловым финалом поэтического текста и должны рассматриваться как законченный образ.
В нем ритмический рисунок последнего слова включает в себя таковые первых трех и является жанрово выделенным. А значит, мы должны понимать некоторый смысл. Для этого запишем все два образа, на которых и строится данное стихотворение, без каких-либо разъяснений, выполненных в другом жанре: Ночь, улица, фонарь, аптека. Ночь, ледяная рябь канала. И это выражение болезненной смерти наблюдателя данной последовательности мысли, состоящей из увиденного им перед концом, к сожалению. Что ж, остается надеяться, что все повторится, как встарь, и мы сможем начать сначала. Допустив, что Александр Александрович удачно сходил в кинотеатр и точнейшим образом предугадал в поэтической форме его структуру. В которой кинематографические блоки соседствуют с театральными героическими действиями, объясняющими еще не привыкшему зрителю новый вид выражения мысли. Остается заменить слова обратно на визуализированные объекты, лирического героя на наблюдателя, а фонетический строй на монтаж. Не забыв при этом и завет авангардистов, открывших, что слоги — лишь удобные образы чтения букв, и что рифмы, что ритмы — суть результат применения одного и того же инструмента. На этой радостной ноте переходим к кино.
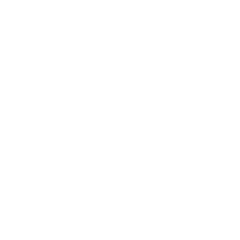
Это фрагмент из 1-й серии фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», производство студии «Ленфильм». Тайминг довольно тонкий: 01:04:33 — 01:04:42. В целом произведении он служит связкой двух сцен: званого ужина с участием Джека Стэплтона, его жены и диалога сэра Генри Баскервиль и доктора Ватсона после напряженного застолья. Выбран он был не напрямую, а из первых рядов списка популярнейших gif-анимаций. Здесь надо внести пояснение, что эти самые анимации сегодня используются очень интересным способом, для сообщения эмоций своему собеседнику в переписке через мессенджер. Ведь передавать их только лишь словами несподручно. Но где же взять эти эмоции, чтобы использовать в таком формате? Конечно же в популярной культуре, а в частности — вырезать удачные из произведений экранных искусств. А это значит, что популярность именно такого фрагмента выходит за рамки статистики, ведь в нем мы видим целых три склеенных эмоции вместо необходимой одной.
Это наталкивает нас на мысль о том, что здесь есть нечто большее, чем спонтанное сочетание. И даже возможен некий смысл, или хотя бы сложное чувство. Также ясно, что предложенный момент не может выполнять роль отсылки к целому произведению, ведь молодежь такое не смотрит, а если и узнает из увиденного что-то, так это лицо Михалкова, может быть Янковского. Давайте попробуем описать то, что мы увидели бы, будучи на их месте, буквально, не подразумевая ничего внешнего. Это будет 4 объекта: радостно предвкушающее лицо 1, иронично ухмыляющееся лицо 2, опрокинутый бокал с вином, пьяная счастливая фигура 1. И это образ устоявшейся в нашем быту еженедельной пятничной пьянки, главным объектом здесь является бокал. Призыв к ней и выражает эта gif`ка. Также мы видим, что оба лица и финальная фигура связаны монтажно по цветности, выбивая главный объект образа из ряда. А ритмическая структура, тоже монтажная, по метру-формы представленных объектов, тянет нас к последнему в их череде. Что и позволяет нам постичь смысл из-за сдвига жанра относительно сюжета.
Конечно, если долго или очень внимательно смотреть, мы начнем различать немного мельче: лицо 1, лицо 2, бокал, + лицо 2, из-за взгляда поверх бокала, фигура 1, + сигара, из-за яркого ее дымления. + Перед каждым лицом глаза, ведь фиксация всегда идет сначала на них. И еще мельче тоже возможно, если начнем успевать циклично бегать взглядом от одного объекта к другому, пока фаза их движения не сменится, формируя тем самым внутренний диалог. Но все это маловероятно при однократном просмотре или просмотре внутри более длинной последовательности. И не перевешивает внутреннюю метрическую структуру заметных изначально объектов. Где первый, условно — зб_У — переводит взгляд, второй — У__бз — поворачивает голову, третий — У_зб_зб_зб — опустошается бокал, четвертый — бз__бз__бз__У — качается и вздыхает. Но так дотошно никто не работает, мы вполне способны понимать это интуитивно. Что и сделала Людмила Образумова, монтажер этой и остальных частей сериала. А также кучи других замечательных лент, все — со сногсшибательным рейтингом и дикой популярностью. А все благодаря яркой, смыслосодержащей кинематографии. Жаль только, во вспомогательной роли и составе скучного театра на экране.
Это наталкивает нас на мысль о том, что здесь есть нечто большее, чем спонтанное сочетание. И даже возможен некий смысл, или хотя бы сложное чувство. Также ясно, что предложенный момент не может выполнять роль отсылки к целому произведению, ведь молодежь такое не смотрит, а если и узнает из увиденного что-то, так это лицо Михалкова, может быть Янковского. Давайте попробуем описать то, что мы увидели бы, будучи на их месте, буквально, не подразумевая ничего внешнего. Это будет 4 объекта: радостно предвкушающее лицо 1, иронично ухмыляющееся лицо 2, опрокинутый бокал с вином, пьяная счастливая фигура 1. И это образ устоявшейся в нашем быту еженедельной пятничной пьянки, главным объектом здесь является бокал. Призыв к ней и выражает эта gif`ка. Также мы видим, что оба лица и финальная фигура связаны монтажно по цветности, выбивая главный объект образа из ряда. А ритмическая структура, тоже монтажная, по метру-формы представленных объектов, тянет нас к последнему в их череде. Что и позволяет нам постичь смысл из-за сдвига жанра относительно сюжета.
Конечно, если долго или очень внимательно смотреть, мы начнем различать немного мельче: лицо 1, лицо 2, бокал, + лицо 2, из-за взгляда поверх бокала, фигура 1, + сигара, из-за яркого ее дымления. + Перед каждым лицом глаза, ведь фиксация всегда идет сначала на них. И еще мельче тоже возможно, если начнем успевать циклично бегать взглядом от одного объекта к другому, пока фаза их движения не сменится, формируя тем самым внутренний диалог. Но все это маловероятно при однократном просмотре или просмотре внутри более длинной последовательности. И не перевешивает внутреннюю метрическую структуру заметных изначально объектов. Где первый, условно — зб_У — переводит взгляд, второй — У__бз — поворачивает голову, третий — У_зб_зб_зб — опустошается бокал, четвертый — бз__бз__бз__У — качается и вздыхает. Но так дотошно никто не работает, мы вполне способны понимать это интуитивно. Что и сделала Людмила Образумова, монтажер этой и остальных частей сериала. А также кучи других замечательных лент, все — со сногсшибательным рейтингом и дикой популярностью. А все благодаря яркой, смыслосодержащей кинематографии. Жаль только, во вспомогательной роли и составе скучного театра на экране.
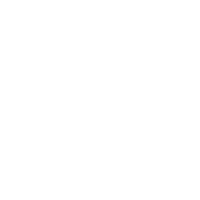
Теперь давайте взглянем на структуру экранного времени, целиком состоящую из кинематографии. Это фрагмент из 3-й серии, последней в оригинальной трилогии, фильма «Пираты Карибского моря», производство студии «Уолт Дисней Пикчерз». Тайминг довольно длинный: 22:20 — 22:56. В нем мы видим высший ключевой образ, разрешающий идеи огромного числа выражений, протянутых сквозь все три приключения. Он целиком состоит из объектов, играющих роли главных в предыдущих и последующих низших ключевых образах произведения. Давайте посмотрим, как он это делает. Мы видим: удивленная фигура 1, уходящая в сторону копия фигуры 1, направляющаяся к зрителю фигура 1, разменная монета играет в руке 2, открывающийся футляр шпаги, нежная рука фигуры 1, фигура 3 принимает бумаги, удивленное лицо фигуры 3, безвольное лицо фигуры 1, обнаженная шпага в руке фигуры 1, разменная монета сыграла в руке 2, замешательство лица 1, решительный взгляд лица 1, испуганный взгляд лица 3, отрешенный взгляд лица 3. Объекты были расписаны по фазам своего метра, в точках смены ими значения. Темп же был ускорен в 2.5 раза, чтобы отчетливо понять этот выверенный ритмический рисунок. Становится понятно, что главный объект этого образа — шпага, а выделенный монтажом объект — монета.
И это образ занесенного меча или смерти, определившейся со своими целями. Финалом всех представленных в этой последовательности элементов, и связанных с ними, окажется кончина. Командор убьет Губернатора, а затем погибнет от руки Джонса, передав шпагу ему. Джек потеряет свою разменную монету, заплатив этим за свою жизнь. Шпага окажется сломана, но успеет пронзить сердце нового владельца. Умирающей рукой мастера, сковавшего ее. Директор компании тоже погибнет, из-за своей приверженности деловому подходу, нежелания платить. Но, в реальности, всего этого мы не увидим, ведь в этом фильме практически все действие заменено монтажом движущихся объектов, сменяющих друг друга. Вот они все живы и целы, и тут — бац, их уже нет. Вот только есть одна проблема с этим образом. В данном здесь представлении он работает, конечно, но в оригинале то ли Стивен Ривкин, то ли Крэйг Вуд совершит ошибку масштаба при монтаже этих 36 секунд. Ведь монета в руке Лорда Беккета там делит экран с его лицом, да еще и говорящим при этом. Что сбивает внимание и ведет к пропуску монеты, из-за чего главным по монтажу объектом остается шпага, лишая тем самым образ смысла. В итоге зритель с удивлением узнает Губернатора Суон в человеке, впоследствии плывущим на лодочке в загробный мир, хотя не должен бы, по задумке. И не понимает раскаяние вроде бы определившегося с приоритетами Командора перед любимой женщиной, отца которой тот, оказывается, убил. Теперь все ясно.
Но если нам кажется все это гениальным и новаторским, чем-то недостижимым, мы ошибаемся. Ведь на повышенной скорости и без звука обнаруживаем интеллектуальный монтаж аттракционов Эйзенштейна. Которым и пронизаны все пираты на корабликах, подобно матросам на броненосце. И секрет здесь вовсе не в качестве этой смыслообразующей неразрывности, как мы уже убедились. Кстати говоря, именно из-за множественных ошибок монтажа провалилась вторая часть тех же авторов. Что же тогда сделало этот фильм таким доступным массовому зрителю? Реплики и диалоги, скажут воспрянувшие духом драматурги. И будут снова неправы. Потому что абсолютно все слова, произносимые персоналиями этого сюжета странные. Не вяжущиеся, нереалистичные, выскопарные и носят отчетливый философский оттенок комментария к тому, что происходит на экране, в действительности не являясь его частью. Это те же фразы-лозунги Сергея Сергеевича, только теперь не в интертитрах, а на звуковой дорожке. Как если бы каждый, кто их произносит, формулировал бы свою речь постфактум, в качестве заэкранного ведущего к тому, что видит. А в своем зеркальном отражении мы так хороши, не правда ли?
И это образ занесенного меча или смерти, определившейся со своими целями. Финалом всех представленных в этой последовательности элементов, и связанных с ними, окажется кончина. Командор убьет Губернатора, а затем погибнет от руки Джонса, передав шпагу ему. Джек потеряет свою разменную монету, заплатив этим за свою жизнь. Шпага окажется сломана, но успеет пронзить сердце нового владельца. Умирающей рукой мастера, сковавшего ее. Директор компании тоже погибнет, из-за своей приверженности деловому подходу, нежелания платить. Но, в реальности, всего этого мы не увидим, ведь в этом фильме практически все действие заменено монтажом движущихся объектов, сменяющих друг друга. Вот они все живы и целы, и тут — бац, их уже нет. Вот только есть одна проблема с этим образом. В данном здесь представлении он работает, конечно, но в оригинале то ли Стивен Ривкин, то ли Крэйг Вуд совершит ошибку масштаба при монтаже этих 36 секунд. Ведь монета в руке Лорда Беккета там делит экран с его лицом, да еще и говорящим при этом. Что сбивает внимание и ведет к пропуску монеты, из-за чего главным по монтажу объектом остается шпага, лишая тем самым образ смысла. В итоге зритель с удивлением узнает Губернатора Суон в человеке, впоследствии плывущим на лодочке в загробный мир, хотя не должен бы, по задумке. И не понимает раскаяние вроде бы определившегося с приоритетами Командора перед любимой женщиной, отца которой тот, оказывается, убил. Теперь все ясно.
Но если нам кажется все это гениальным и новаторским, чем-то недостижимым, мы ошибаемся. Ведь на повышенной скорости и без звука обнаруживаем интеллектуальный монтаж аттракционов Эйзенштейна. Которым и пронизаны все пираты на корабликах, подобно матросам на броненосце. И секрет здесь вовсе не в качестве этой смыслообразующей неразрывности, как мы уже убедились. Кстати говоря, именно из-за множественных ошибок монтажа провалилась вторая часть тех же авторов. Что же тогда сделало этот фильм таким доступным массовому зрителю? Реплики и диалоги, скажут воспрянувшие духом драматурги. И будут снова неправы. Потому что абсолютно все слова, произносимые персоналиями этого сюжета странные. Не вяжущиеся, нереалистичные, выскопарные и носят отчетливый философский оттенок комментария к тому, что происходит на экране, в действительности не являясь его частью. Это те же фразы-лозунги Сергея Сергеевича, только теперь не в интертитрах, а на звуковой дорожке. Как если бы каждый, кто их произносит, формулировал бы свою речь постфактум, в качестве заэкранного ведущего к тому, что видит. А в своем зеркальном отражении мы так хороши, не правда ли?
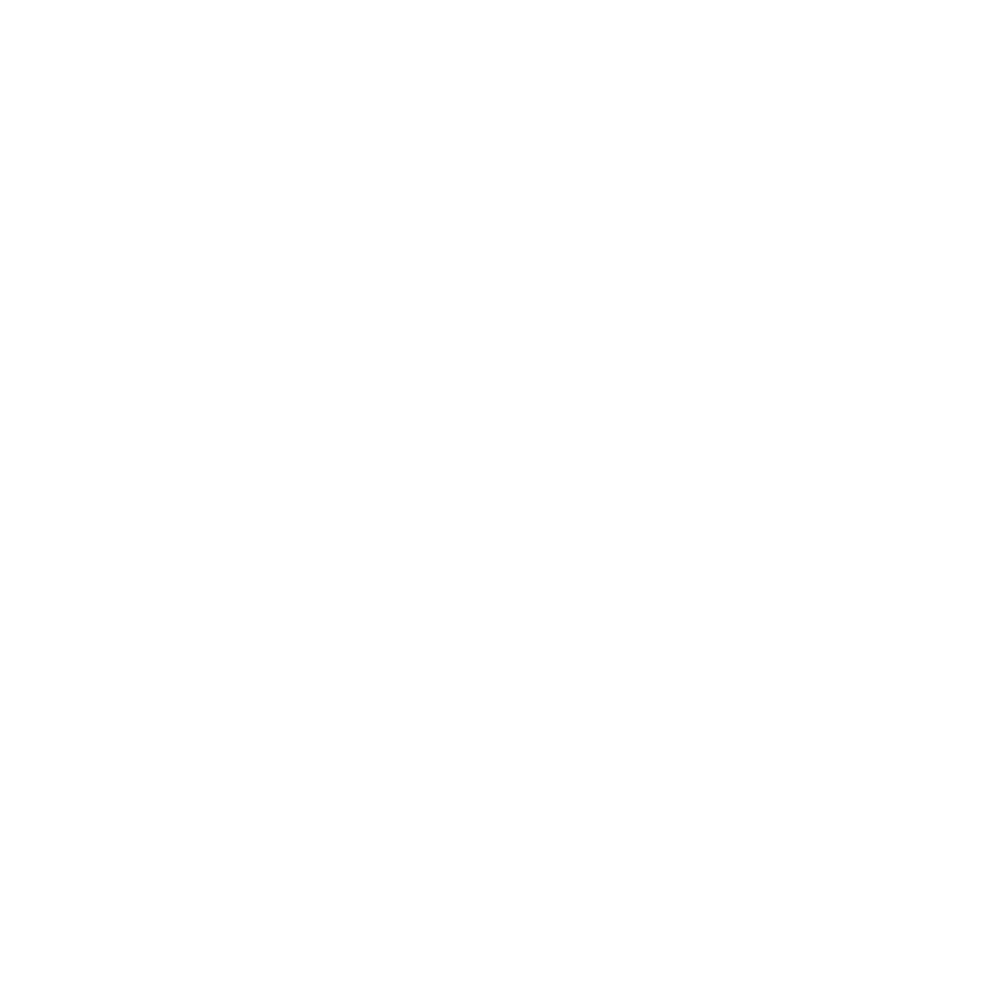
Закругляя тему, посмотрим нечто среднее, не просто межжанровое, а межвидовое для кино и поэзии. Чтобы детальнее увидеть, как работает метр объекта. Здесь вырисовывается классическая мультипликация, где пограничные фазы движения одного предмета даны раздельно. А не переходят друг в друга плавно, тем самым оголяя ритмическую структуру. И поэтическая последовательность слов, копирующая это монтажно. Чтобы такое реализовать, используется 2 сложных образа, которые делят между собой 1 главный объект. В первом мы видим сначала человечка, который становится ярче, затем понимаем, что его голова представляет собой створки приоткрытого окна, которое в конце концов оказывается распахнутым, являя белый бесформенный свет. Далее этот свет становится сочетанием букв, сначала непонятным, а затем читаемым как аббревиатура. Расшифровка которой дается отдельно каждым словом. Слова эти делятся на слоги при чтении и обретают ритм выхода ударного слога из закрытой позиции, тем самым повторяя выход света, поначалу скрытого в голове человечка. Так, монтаж обходит главный объект стороной, выделяя слово «выражение», что похоже на описанный выше случай с бокалом, делает композицию симметричной. Позволяет понять, что делать кино, да и не только его, теперь надо с ВЯК, возращая честь Владимиру Яковлевичу.
Но мы здесь не ради хвастовства, а ради того, чтобы понять, как устроено наше внимание. Почему оно выделяет фазы движения. Почему кино — это все-таки иллюзия движения. И как этой иллюзией управлять. Из примера становится очевидным тот факт, что, интерпретируя метр, мы выделяем в нем не просто яркие моменты, а создаем в своем воображении отдельных для них акторов. Объекты, поскольку перестаем видеть человечка, когда открываются створки окна, и его, когда обнаруживаем за ним свет. Хотя в действительности все эти как будто бы действия совершает та же фигурка. Тем самым и выводится понимание кино, имитирующего этот процесс на экране. Его механизм работы. Где нет никаких взаимодействий, никакого времени, что в жизни мы только лишь измышляем. Кинематография являет собой то, что в действительности есть мир вокруг нас. А именно, выборочную череду абсолютно статичного пространства. Которое поворачивается к нам то одним боком, становится жанром, то другим — сюжетом. Неуловимыми же эти сущности кажутся нам лишь потому, что своей неразрывностью уводят в мысли. Никак не связанные с действительностью.
Но мы здесь не ради хвастовства, а ради того, чтобы понять, как устроено наше внимание. Почему оно выделяет фазы движения. Почему кино — это все-таки иллюзия движения. И как этой иллюзией управлять. Из примера становится очевидным тот факт, что, интерпретируя метр, мы выделяем в нем не просто яркие моменты, а создаем в своем воображении отдельных для них акторов. Объекты, поскольку перестаем видеть человечка, когда открываются створки окна, и его, когда обнаруживаем за ним свет. Хотя в действительности все эти как будто бы действия совершает та же фигурка. Тем самым и выводится понимание кино, имитирующего этот процесс на экране. Его механизм работы. Где нет никаких взаимодействий, никакого времени, что в жизни мы только лишь измышляем. Кинематография являет собой то, что в действительности есть мир вокруг нас. А именно, выборочную череду абсолютно статичного пространства. Которое поворачивается к нам то одним боком, становится жанром, то другим — сюжетом. Неуловимыми же эти сущности кажутся нам лишь потому, что своей неразрывностью уводят в мысли. Никак не связанные с действительностью.
Г
ИТОГ СЮЖЕТ ЖАНРА
Но мы отошли от темы, хоть в ее качестве и обозначена формула смысла. Возможная в том случае, если сюжетом считать последовательность атрибутов, а жанром — последовательность, когда мнимых, а когда явно данных, их взаимодействий
Что оказывается довольно удобным, ведь так мы можем проследить родственные отношения произведения и вида искусства, к которому то принадлежит. Также, при таком подходе, обретает смысл деление жанров на большие и малые композиционные формы. Ведь действие вообще-то и правда обладает причинно-следственными отношениями, в отличие от сюжета. Что ограничивает его вариации до посчитанного числа, из которого разумно выделять самостоятельные композиции меньшей длины. А из тех составлять, с некоторой условностью, эталонную большую форму, выполняющую роль энциклопедии для авторов. Что надо делать для каждого искусства в отдельности.
Сюжет же превращается в последовательность образов, складывающихся в выражения. Оправдывает любые языки тем, что обнаруживает свои корни в нашем мышлении. И выходит из тисков неверного определения. Также как и зритель, который отнюдь не глуп, а лишь озлоблен от того, что вынужден жить в окружении одних и тех же предметов, театр которых давно исчерпал себя и превратился в цирк. А все из-за буквального и дотошного прочтения текстов, в которых мастерами дела всегда виделось и подразумевалось обратное. Но не передалось ученикам, поскольку устная культура смертна, в отличие от письменной. Что на этой странице исправляется и должно быть исправлено на других.
Помимо этого, теперь становится ясно, как трансформируются художественные образы из образов реальности. Путем замены одних объектов на другие. Что приводит к обретению сюжетности и к смене исходного жанра ради достижения смысла. Стоит дом без окон, без дверей на пограничье двух миров. Гроб очутился в сказке. Но это лишь при натуралистическом подходе, тогда как отдельные авторы склонны с некоторой изысканностью изымать сюжет одного искусства и выражать его в другом, меняя механику жанра. Или действовать наоборот. Те, что поспособнее, делают это со своими мыслями, а другие, что поскромнее, пользуются уже готовыми. Так вскрывается принцип, на котором базируется все мифическое. Вневременное в том смысле, что искажая образ реальности с целью ее изменить, произведение выпадает из исторического хронотопа и становится применимо не только к сегодняшнему дню, но и к прошлому, и к будущему.
Что еще хорошего приносит данное рассуждение — это снятие конфликта власти и искусства. Поскольку первой важно, чтобы выбранная творцом вариация объектов не склоняла действительность в бездну, хаос. Сюжет просто обязан это учитывать, из альтруистических побуждений, а не желания кому-то там угодить. Тогда как на жанр же всем по сути дела все равно. Разве это не замечательно? Искусство — молот, кующий реальность. Это инструмент, у него есть техника безопасности. А культура лишь следует и исследует, обучая новых людей жить в вариативном пространстве. Которое невозможно понять без внешних соединений, бытующих в наших головах. Где хорошо и свободно только тогда, когда есть много разных, не похожих друг на друга принципов взаимосвязи. Много разных искусств. Особенно сейчас, когда на посту религии науку вновь сменила политика. А система взаимных доказательств потеряла веру читателей в угоду выверенной риторике.
И мы не оставим таковым шанса допустить новую ошибку, заявив, что жанры как определялись интуитивно, так и определяются. А всяческие измышления лишь подгоняли себя под это ощущение. Но теперь, зная механизм работы этого чувства, можно адекватно растолковывать то, что мы называем сказкой, что мы называем трагедией, комедией, а что портретом, пейзажем и проч. А что — их наполнением. Не прибегая к помощи драмы — жанрового огрызка литературного творчества, который всегда использовался лишь как план для формирования авторской сюжетности и образной художественности, а затем и замены себя самого на собственные для каждого искусства в отдельности жанровые механизмы. Тогда как сейчас мы забыли, как это делать. Используем ее для увязки одних и тех же брендированных образов в удобные сиюминутно смыслы. Что, помимо конечной выгоды, приводит к росту шизофрении в обществе.
Но главное, кино теперь обладает системой классификации по своему жанровому устройству. Это блокбастер, где Александр Александрович — стремный парень, конечно, но может стать другом и подсказать, как чередовать цикличный монтаж диалогов с прогрессией экшена. Аттракцион Эйзенштейна, где монтаж настолько сложен, что начинает требовать отдельную функцию посредника между собой и зрителем. Триллер Хичкока, где все непонятно, поскольку главный объект образа уничтожается, тем самым заставляя вечно ждать… Своего явления. И таймер, личное изобретение Тарковского младшего, что решил топить главный объект образа в бесконечно медленном течении зависимых от него элементов, очень красивых и метричных, запечатлевающих такое продолжительное время, которое все идет и идет, что жизнь наша прекрасная и неуловимая так делеко-далеко, уносится ветром и пробегает по траве, что вечно зелена, но не мы…
3:1 в отборочном по идеям. 2:2 в матче их реализаций. И это если не брать в расчет скример Орсона Уэллса. Не пора ли сменить стратегию на новый век?
Что оказывается довольно удобным, ведь так мы можем проследить родственные отношения произведения и вида искусства, к которому то принадлежит. Также, при таком подходе, обретает смысл деление жанров на большие и малые композиционные формы. Ведь действие вообще-то и правда обладает причинно-следственными отношениями, в отличие от сюжета. Что ограничивает его вариации до посчитанного числа, из которого разумно выделять самостоятельные композиции меньшей длины. А из тех составлять, с некоторой условностью, эталонную большую форму, выполняющую роль энциклопедии для авторов. Что надо делать для каждого искусства в отдельности.
Сюжет же превращается в последовательность образов, складывающихся в выражения. Оправдывает любые языки тем, что обнаруживает свои корни в нашем мышлении. И выходит из тисков неверного определения. Также как и зритель, который отнюдь не глуп, а лишь озлоблен от того, что вынужден жить в окружении одних и тех же предметов, театр которых давно исчерпал себя и превратился в цирк. А все из-за буквального и дотошного прочтения текстов, в которых мастерами дела всегда виделось и подразумевалось обратное. Но не передалось ученикам, поскольку устная культура смертна, в отличие от письменной. Что на этой странице исправляется и должно быть исправлено на других.
Помимо этого, теперь становится ясно, как трансформируются художественные образы из образов реальности. Путем замены одних объектов на другие. Что приводит к обретению сюжетности и к смене исходного жанра ради достижения смысла. Стоит дом без окон, без дверей на пограничье двух миров. Гроб очутился в сказке. Но это лишь при натуралистическом подходе, тогда как отдельные авторы склонны с некоторой изысканностью изымать сюжет одного искусства и выражать его в другом, меняя механику жанра. Или действовать наоборот. Те, что поспособнее, делают это со своими мыслями, а другие, что поскромнее, пользуются уже готовыми. Так вскрывается принцип, на котором базируется все мифическое. Вневременное в том смысле, что искажая образ реальности с целью ее изменить, произведение выпадает из исторического хронотопа и становится применимо не только к сегодняшнему дню, но и к прошлому, и к будущему.
Что еще хорошего приносит данное рассуждение — это снятие конфликта власти и искусства. Поскольку первой важно, чтобы выбранная творцом вариация объектов не склоняла действительность в бездну, хаос. Сюжет просто обязан это учитывать, из альтруистических побуждений, а не желания кому-то там угодить. Тогда как на жанр же всем по сути дела все равно. Разве это не замечательно? Искусство — молот, кующий реальность. Это инструмент, у него есть техника безопасности. А культура лишь следует и исследует, обучая новых людей жить в вариативном пространстве. Которое невозможно понять без внешних соединений, бытующих в наших головах. Где хорошо и свободно только тогда, когда есть много разных, не похожих друг на друга принципов взаимосвязи. Много разных искусств. Особенно сейчас, когда на посту религии науку вновь сменила политика. А система взаимных доказательств потеряла веру читателей в угоду выверенной риторике.
И мы не оставим таковым шанса допустить новую ошибку, заявив, что жанры как определялись интуитивно, так и определяются. А всяческие измышления лишь подгоняли себя под это ощущение. Но теперь, зная механизм работы этого чувства, можно адекватно растолковывать то, что мы называем сказкой, что мы называем трагедией, комедией, а что портретом, пейзажем и проч. А что — их наполнением. Не прибегая к помощи драмы — жанрового огрызка литературного творчества, который всегда использовался лишь как план для формирования авторской сюжетности и образной художественности, а затем и замены себя самого на собственные для каждого искусства в отдельности жанровые механизмы. Тогда как сейчас мы забыли, как это делать. Используем ее для увязки одних и тех же брендированных образов в удобные сиюминутно смыслы. Что, помимо конечной выгоды, приводит к росту шизофрении в обществе.
Но главное, кино теперь обладает системой классификации по своему жанровому устройству. Это блокбастер, где Александр Александрович — стремный парень, конечно, но может стать другом и подсказать, как чередовать цикличный монтаж диалогов с прогрессией экшена. Аттракцион Эйзенштейна, где монтаж настолько сложен, что начинает требовать отдельную функцию посредника между собой и зрителем. Триллер Хичкока, где все непонятно, поскольку главный объект образа уничтожается, тем самым заставляя вечно ждать… Своего явления. И таймер, личное изобретение Тарковского младшего, что решил топить главный объект образа в бесконечно медленном течении зависимых от него элементов, очень красивых и метричных, запечатлевающих такое продолжительное время, которое все идет и идет, что жизнь наша прекрасная и неуловимая так делеко-далеко, уносится ветром и пробегает по траве, что вечно зелена, но не мы…
3:1 в отборочном по идеям. 2:2 в матче их реализаций. И это если не брать в расчет скример Орсона Уэллса. Не пора ли сменить стратегию на новый век?
▼-содержание
▼
В Толк
Введение в выражение языка кино или просто о непонятных словах.
1`Передача
Аудиовизуальное временное произведение широкого вещания, выстроенное определенным образом для последовательного восприятия зрителем/слушателем.
2`Киноматериал
Явления и события ярко выраженного временного характера, данные в беспорядочном или оформленном виде.
2.1`Естественный киноматериал
Личный или заимствованный опыт прямого наблюдения явлений и событий.
2.2`Производный киноматериал
Оформленные и выраженные в виде произведения временного (пространственно-временного) искусства явления и события.
3`Киноформат
Форма и способ организации визуального сообщения на экране.
3.1`Малый киноформат
Организация экранного пространства, при которой только один кинообъект существует одновременно со зрителем.
3.2`Большой киноформат
Организация экранного пространства, при которой два и более кинообъекта существуют одновременно со зрителем.
4`Киновыражение
Собственный кино художественный процесс передачи и активации смыслов с помощью последовательного расположения кинообъектов во времени.
4.1`Кинообраз
Последовательность воспринимаемых кинообъектов (в т.ч. один кинообъект), ограниченная форматом и длиной, мельчайшая смысловая и композиционная единица кинопередачи.
4.1.1`Простой кинообраз
Кинообраз, состоящий только из одного кинообъекта.
4.1.2`Сложный кинообраз
Кинообраз, состоящий из нескольких кинообъектов.
4.1.3`Рядовой кинообраз
Кинообраз, связанный смыслом только с предшествующим кинообразом.
4.1.4`Ключевой кинообраз
Кинообраз, связанный смыслом с кинообразом/кинообразами или целым киновыраженем в памяти зрителя.
4.2`Наблюдатель
Мнимый посредник между кинообъектом и зрителем.
4.3`Кинообъект
Значение или несколько значений в форме предмета.
4.3.1`Согласованный кинообъект
Кинообъект, характеристики которого объединены одним значением.
4.3.2`Несогласованный кинообъект
Кинообъект, характеристики которого не объединены одним значением.
4.3.3`Главный кинообъект
Смысловое ядро кинообраза и единица времени наблюдателя.
4.3.4`Зависимый кинообъект
Второстепенный по смыслу материал кинообраза и основная единица времени наблюдателя.
4.4`Монтаж
Собственный кино инструмент зрительной связи кинообъектов, образовавших смысловую последовательность.
4.4.1`Прямой монтаж
Монтажная связь кинообъектов по одинаковой характеристике.
4.4.2`Косвенный монтаж
Монтажная связь кинообъектов по различной характеристике.
4.4.3`Повторенный монтаж
Монтажная связь кинообъектов, при которой характеристика повторяется.
4.4.4`Продленный монтаж
Монтажная связь кинообъектов, при которой характеристика продолжается.
5`Образец
Знаковая система записи киновыражения.
На деле
Примеры использования объективной теории кино ВЯК.
Приложение 1: Двигатель композиции
Средство доставки сквозного объекта до элементов в их последовательности.
Приложение 2: Перцептивная перспектива
Реалистичная визуализация геометрии объектов в пространстве и времени их наблюдения.
Приложение 3: Сюжет жанра
Механизм работы и метод классификации произведений искусства на структурном уровне языка.
Приложение 4: Монтаж памяти и сознания
Механизм работы образного мышления кинематографиста.
Приложение 5: Постановка реальности
Принцип выражения и постижения языка кино в натуре.